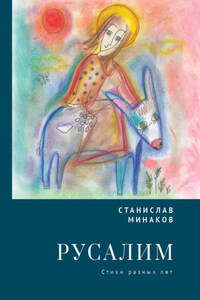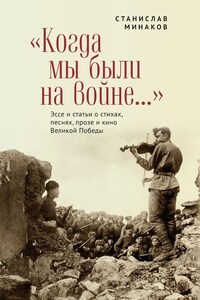Поедание вишен Опыт свободного текста
Я говорю о вишне.
Серый ствол с едва угадываемой краснинкой, а на стволе – клей, янтарно-красная смолка – в начале лета. У детворы к этой самой смолке – страсть, недоступная моему уму. Пробовал, жевал, нет, не постиг, каждый раз выплёвывал. Много всего разного, друг мой Горацио, такого… Я не в претензии, и ущербности особой не чувствую в непричастности своей к таинству смолки, однако точится паразитом мысль: ведь кто-то эту смолку понимает, а что ж, значит, мне не дано? В такой постановке вопроса сразу намечен зачаток гордыни, дескать, будто бы способен всё умом превзойти, а тут – малости какой-то осилить – невмочь. Гордыня-то в том и заключается, что, предполагая себя способным осмыслить всё, ставишь знак равенства между частью (собой) и целым (миром), что есть совершенная глупость.
«Совершенная глупость» – это родственное выражение с «достаточно плохой», где достаточность и состоит как раз в упомянутой плохости. А «совершенная глупость», видимо, означает глупость саму в себе, как таковую, явленную полно, отчётливо и значительно.
Я – о вишне.
Очень красивое дерево! Любовь к прочим не мешает мне произнести эти слова именно о вишне.
Когда Шукшин берёзам говорит: «Ишь, стоят!.. Ну, стойте, стойте!» – у меня слеза наворачивается от безсилья превозмочь сладостную муку бытия.
Так вот, люблю я липу да дуб, тополь, клён, берёзу, рябину, иву, эх, яблоню, и вишню ж, вишню. У неё меж листьев обитают в июне плоды. Бордовые. Иногда – до чёрного… Рот уже наполняется слюной, набухает весь. Что могу сообщить в таком состоянии? Бу-бу-бу, и всё. Меня, рассказчика, уже нет, я уже вбрасываю их пригоршнями в зев, не выдерживаю. Смаковать по солнечной капельке, как дегустаторы вин, это – иной, мазохистский дар, это – свыше. А мои нервы устроены так (спихну ответственность на природу), что организм сразу начинает не по-китайски лязгать, ритмически двигаться. Короче, спазмы сплошные – вплоть до утоления.
…Становлюсь на цыпочки и, едва дотягиваясь, осторожно-тонко указательным и средним пальцами улавливаю один листик, медленно подтягиваю вместе с веткой вниз, что невероятно трудно, ибо сам – струна, и как в высшей точке соблюсти тонкость и нежность? От сбывающейся несбыточности ломит в затылке. В ничтожном зазоре между пальцами и листиком – колоссальная энергетическая напряжённость. В этом экстремуме кажется, что осязаю слабый пушок на листке прежде, чем собственно листок. Что-то в этом есть юношеское, запредельное (точнее, предпредельное) – от первого прикосновения к женщине.
Захватываю остальными пальцами второй лист. Вниз, вниз – нет! – черенки этой пары не выдерживают, ветка стреляет вверх, и от неожиданности ухаю вниз со всей высоты своих «цыпочек», и во время этого бездонного падения успеваю осознать, что – уф! – не бездна под ногами, и – счастье облегчения – живу! – а над лицом ходуном ходит ветвь живая, и одна-две-три переспелые ягоды плюхаются на очки, в бороду, на рубашку. Рубашке – хана, «кровавое» пятно останется навсегда. Сначала это заботит, и в рассматривании пятна промелькивает бытовой, хозяйский интерес, но быстро, – ведь сердце дышит так же, как ветка над головой. Пружина.
Трудно дождаться успокоения ветки. Прыжок, она поймана правой ладонью за кончик, и подпригнута долу. Левая рука скоро шарит в листве, однако глаза успевают пытливо всматриваться в вишнёвые зрачки, отбраковывая те, что покрасней, а вот бордово-чёрные – сюда, в ладонь, по три-пять – в рот. А эти, переспевшие, налитые как упившиеся комарихи, этих надо брать за светящуюся оболочку осторож-нень-ка! Лопаются! Сок течёт по пальцам, дальше, по локтю, ягодины (хочется произнесть: ягодицы – экое вкусное слово!) – здоровенные, и сок затекает аж за шею, в подмышки, на рубашку же – чёрт с ней! – азарт заводит, и косточки вылетают сразу впятером (живые!) с таким вот звуком: флу! Особенное языкодвижение вырабатывается сразу. Одновременно осознаю и поражаюсь замечательному взаимодействию языка с зубами и нёбом – по отделению мякоти от косточек, стремительно дивлюсь себе как венцу природы именно в этом. Со вхождением в состояние ветки-пружины (спазма) резко ускорилось и мышление. В краткие миги мысль высвечивается сразу-целиком: и посыл, и розмысел, и вывод. Словно видится вагонный состав – одновременно сзади, спереди и с боков, цельно, совокупно. Стереоскопичность такова, что кажется: прозреваешь единовременно-единопространственно весь-полный мир-р! Флу! А в горле, в том месте, где шея переходит в грудь, в костной впадинке, названия которой не ведаю, живёт, гудит эдакое постоянное: «Гым-м!»