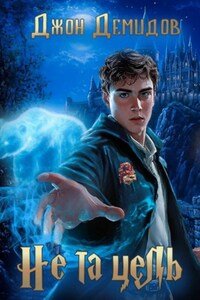Пролог
Ночь была тяжела, словно налившаяся свинцом чашка. Ветер прогибал краю крыши и свистел в щелях, выла через антенны и заставлял мачты по -секундно стучать по железу. Снежные иглы клевали по стеклу так, будто кто‑то снаружи царапал мир. В квартире Норы светился одинокий фонарь; его желтоватый круг держал на плаву маленький островок тепла в океане холода. Она проснулась не от звука – от пустоты между звуками. Это было не голос, какой произносили люди; это была гусеница времени, селящаяся в черепной коробке и расползающаяся по мыслям, как холодный пух.
Нора не отличила его от сновидения и одновременно поняла: это зов.
– Нора. Имя упало куда‑то ниже ребер. Оно было одновременно и чужим, и знакомым до дрожи: тот же изгиб, одна и та же интонация, которой когда‑то называли её брат.
Сердце откликнулось странным, тупым ударом, и в комнате стало слышно только его дыхание – её собственное и ветра. Она знала, что нельзя вставать. Знала это, как в детстве знала, что нельзя бежать к краю льда. Но ноги двинулись сами.
В комнате было темно, но у окна – на самом краю веранды – что‑то мелькнуло: тонкая синяя точка, подобная глазу глубокого существа. Нора подошла ближе, ладони прилипли к холодному стеклу. Под ним трещина в ледяной плите бухты расползалась чёрной линией, и где‑то в её глубине мерцали те самые синие огни – не ровный свет, а пульсирующие, как дыхание. – Иди, – повторил голос. – Иди вниз.
Она вспомнила мальчика, который однажды сказал ей, что внизу лёд хранит музыку. Мальчика звали её брат. Он любил бегать босиком по замёрзшему берегу и бросать в трещину лампочки, чтобы смотреть, как свет тонет, как будто зажжённые верёвочки падали в губы мира. Однажды он ушёл и не вернулся.
Родители сказали, что случилось несчастье; люди говорили, что он ушёл вслед за светом. Но Нора знала по форме его имени, что его зовут не ветер и не лед – кто‑то другой называл его и теперь зовёт её. За стеной кто‑то помешал чайник.
Голос, человеческий и строгий, сказал: «Спи». Ана, её мать, спала, и в её жестах был след усталости, который оставляют долгие годы ожидания. Нора не хотела будить её. Она не хотела, чтобы в доме снова звучали вопросы, которые не имеют ответов. Она спустилась по узкой лестнице, босые ноги слипались от холода. На столе лежал блокнот с жёлтыми страницами – мамин архив – тот самый, который Ана доставала редко, как священную книгу.
Нора не помнила, когда в последний раз брала его в руки; хотелось думать, что если положить ладонь на страницу, то можно уловить ещё тёплую вибрацию – память, которая не успела остыть. В блокноте были карты, каракули и строки, написанные почерком, потрёпанным временем. На одной из страниц низко, почти по краю, кто‑то набросал маленькие фигурки: колонны, подобные зубам, и точки – «синие свечи», – и сверху – строчка: «Они помнят. Они зовут».
Ниже – каракулями: «Не извлекать. Не давать забыть». Внизу, у окна, ветер попытался затянуть звук снова – то, что нельзя было назвать словом. Лёгкие волны звона дошли из глубины трещины: целый хор, и каждый голос нес в себе вкус чужой жизни – радость, страх, тоску, смех младенца, старческий плач.
Они не пели для неё; они воспроизводили фрагменты, как если бы лёд – огромная лента – напрягся и начал воспроизводить старые записи.
– Нора, – снова произнёс голос, и теперь в нём не было угрозы. В нём было обещание. – Иди.
Она прислонила лоб к холодному стеклу. В отражении лица Норы дрогнула тень; в глубине глаз собралась вода. Её память сложила короткие кадры: брат, который держит её за руку; его смех; тот день, когда он сорвался и ушёл – как будто за ним стремились слова, которые никто не мог произнести; и кто‑то, чей голос похож на шелест страниц.