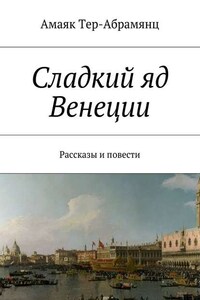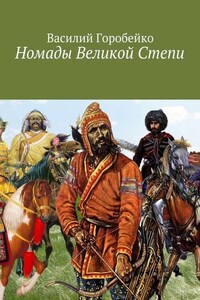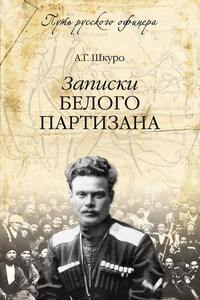Пролог, который является началом эпилога
Труп грозного Гургена лежал на площади перед церковью. Справа от него, в ряд, лежали его сотоварищи дашнаки-маузеристы. Он был крайним, а за ним – Або, Саркис, Каро, Ваче и другие. Красная армия взяла Город c четвертой попытки. Кто решил отступать – отступили в Зангезур, а здесь остались те, которые не успели уйти или не захотели.
Пространство перед папертью было занято рядами мертвых маузеристов c голыми ногами и синими ступнями. Несмотря на раннюю весну, солнце припекало по-летнему, и животы у трупов начали неизбежно вздуваться, отчего все они казались толстяками. На груди у многих горели всунутые в мертвые руки маленькие свечки – у некоторых они уже погасли. Тихо и редко позванивал церковный колокол, а между убиенными ходил в черном маленький горбатенький старичок с блестящей лысиной, окруженной седой порослью, теребил дешевый нагрудный крест и шевелил губами.
Грозный Гурген лежал, и теперь его никто не боялся: ни большевики, ни турки, ни городские обыватели, ни духанщик Мамикон. Кто знал своих, тех уже забрали, а эти, оставшиеся, были в основном из других уездов, из деревень. И лишь любопытные к смерти люди пришли сюда, образовав небольшую толпу, и перешептывались. Женщины, морщась, поднимали к лицам платки, мужчины – рукава к носам, чтобы ослабить назревающий трупный смрад, но не уходили, а будто еще чего-то ждали. Иногда кто-то шептал: «Смотрите – Гурген лежит!».
Жара творила разложение и в животе Гургена, грозного командира вольного хумба – отряда. Гнилостные газы, вздув живот, как барабан, нашли слабое место – грыжу – следствие позапрошлогоднего пулевого ранения под Сардарабадом. Истонченный грыжевой мешок, подрезанный осколком гранаты, лопнул, и газы с сипом покинули чрево.
Те, кто стояли неподалеку, замахали руками и отошли, но не ушли совсем. Кто-то весело высказался.
Над глазницей Гургена, заполненной подсохшей кровянистой кашей, деловито зудели мухи, свечка догорала, и пламя уже касалось бесчувственных пальцев.
Матрос Жлоба, перевязанный крест-накрест патронными лентами, подошел к мертвому Гургену и поставил свой сапог ему на голову. Сапоги у Жлобы были хорошие, хромовые – он менял их после каждого наступления. Так было на Кубани, так было в Крыму, так и здесь…
Матрос Жлоба покачивался. Он был пьян, но недостаточно и злился оттого, что его поставили здесь зачем-то охранять эти трупы, в то время как его боевые товарищи праздновали победу в винном погребе, который взяли накануне штурмом.
И ведь этот был там! – Жлоба его сразу узнал по отрубленной щеке, за которой белел частокол зубов. Кто его так? – Шашек у красноармейцев в том бою не было – штыки, винтовки, пистолеты… И когда они ворвались в духан, этот уже придерживал щеку рукой, зверем выл, сидел в углу и раскачивался. И молодой солдат Силкин ударил штыком ему в глаз, просто так, в отместку за собственный страх.
– Свиделись! – усмехнулся, покачиваясь, Жлоба, снял сапог с головы и достал из-за пазухи сильно початую бутыль. – Свиделись!
Грозный Гурген молчал, зудели мухи. Жлобе стало скучно. Он поднял глаза и встретился с глазами толпы, в большинстве своем черными, настороженными, молчаливыми, и вдруг почувствовал себя в центре внимания. От него будто чего-то ждали. Мужчины смотрели угрюмо, женщины прикрывали черными платками лица, выражение их глаз было неопределенно-выжидающим.
– Товарищи! – Жлоба вытянулся во весь свой богатырский рост и выбросил вверх руку совсем так, как это делал их комиссар Фрумкин. – Товарищи! – провозгласил Жлоба. – Вот теперь, когда мы этих гадов порешили, и начнется счастливая жизнь!