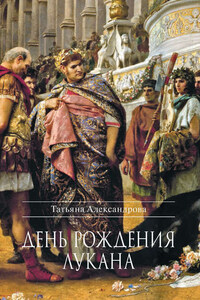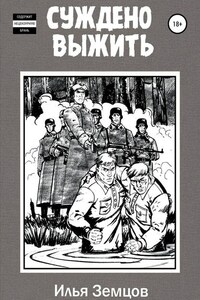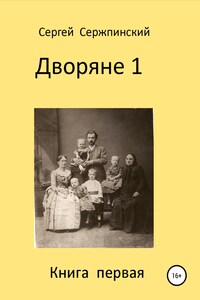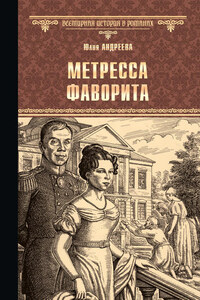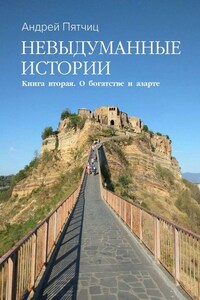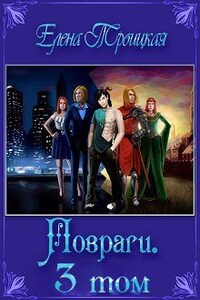Человек! Ты был гражданин этого великого града. Неужели небезразлично тебе, что не пять лет, раз сообразие с законом у всех равно? Что же тут страшного, если тебя высылает из города не деспот, не судья неправедный, но введшая тебя природа? Словно комедианта отзывает с подмостков занявшийся им претор. «Но я же сыграл не все пять частей. Три только». – Превосходно; значит, в твоей жизни всего три действия. Потому что свершения определяет тот, кто прежде был причиной соединения, а теперь распадения, и не в тебе причина как того, так и другого.
Так уходи же кротко, ведь и тот, кто тебя отзывает, кроток.
Марк Аврелий, Размышления (XII, 36)[2]
1
– Ну что ж, сынок? Простимся!
Вдова Вибия ласково провела рукой по курчавым, непокорным волосам сына, а тот, несколько раздосадованный столь явной материнской лаской, мягко, но настойчиво отвел ее руку.
– Пора, матушка, – сказал он поспешно. – Дальше уже некуда тянуть, вон, Матур машет рукой. Смотри, все на палубе и уже канаты отвязывают.
– Марк, милый! – прекрасные темно-карие глаза Вибии наполнились слезами. – Увижу ли я тебя вновь? Ах, ладно! – Слеза покатилась по ее щеке, но тут Вибия спохватилась, что не стоит ей своими слезами омрачать сыну радость долгожданного путешествия, и, сделав глубокий вздох, быстро проговорила: – Да хранит тебя Бог!
Марк Веттий, черноволосый и кареглазый юноша с густыми, слегка асимметричными бровями и по-детски пухлыми губами, к которому и относились эти слова, поморщился:
– Матушка, ну опять ты за свое? Обещаю тебе, что буду стараться оправдать надежды, твои и отца, что не упущу ни одной возможности и возьму все, что может дать мне Город. Будь здорова!
И, поклонившись матери, побежал к пристани, где корабельщики уже и правда отвязывали канаты, готовя к отплытию внушительных размеров торговое судно кельтского образца, под кожаными парусами, на котором читалось название «Фортуна». Слезы неудержимо покатились по щекам Вибии, а губы ее неотступно повторяли молитву: «Господи, сотворивший небо и землю, спаси и сохрани единственную мою надежду!»
Вибия долго еще стояла, вглядываясь в золотистый утренний туман над серебряной рекой, и до последнего провожала глазами отплывающую «Фортуну», пока та не растаяла в этом тумане, в лучах восходящего солнца. Потом она какое-то время любовалась на привычное и знакомое место, где мощный Родан принимает в себя сонные воды медлительного Арара, на оживленно движущиеся по обеим рекам разнообразные суда и суденышки, от галльских кораблей, подобных «Фортуне», способных выдержать путешествие не только по реке, но и по морю, до увеселительных лодок под пурпурными шатрами. Умом Вибия понимала, что ее тревога чрезмерна: в самом деле, ведь не на войну, не в холодные болота дикой Германии и не в дальнюю жаркую Парфию отправляла она своего мальчика, а в Рим, столицу мира, и не к чужим людям, а чтобы жить в семье родного дяди своей матери, сенатора Тита Клодия Вибия Вара, и поехал он не один, а в сопровождении нескольких верных рабов, и не с какими-то разбойниками, а с честными торговцами, известными в городе. Но как не биться в тревоге материнскому сердцу, если семнадцатилетний сын, единственная ее надежда и утешение, впервые покинул родительский кров и отправился за тысячи миль? И Вибия все стояла, словно застывшая. Скорбной своей фигурой она чем-то напоминала Ниобу, хотя саму бы ее испугало такое сравнение: она плакала лишь о временной разлуке с сыном и, несмотря на слезы, всей душой надеялась, что проводила его в новую, счастливую жизнь.