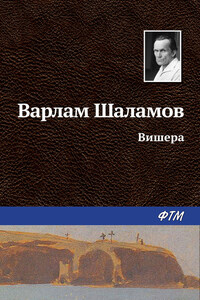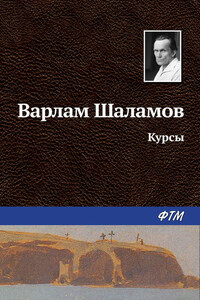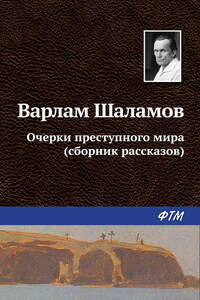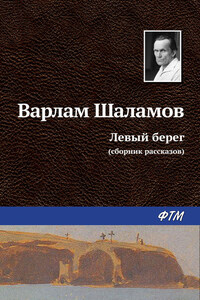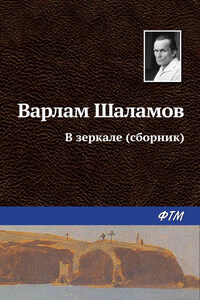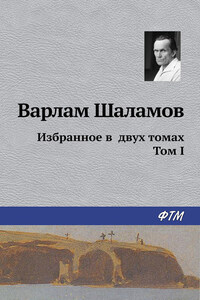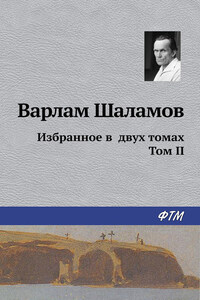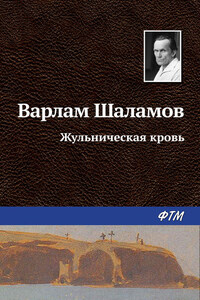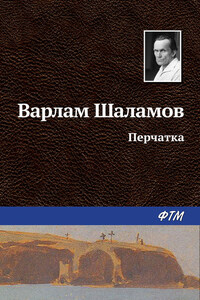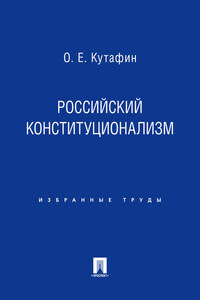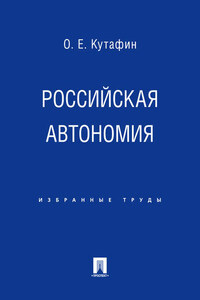На каждой станции я просовывал в щель записки: перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения… перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры Бутырской тюрьмы, после полуторамесячной одиночки № 95 МОКа – мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с Попермейстером, но ушел раньше, чем он.
Приговор – три года концлагеря – был по тем временам жестким. Давали ссылку, политизолятор, но со мной было решено рассчитаться покрепче – показать, где мое место.
Со мной не было никаких вещей, никаких денег – пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона.
Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым…
Подлое мщение, удар в спину Особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я еще мало тогда знал об амальгамах. Через четверть века, через двадцать пять лет, в 1954 году в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения Решетниковского торфопредприятия, «начальник» просмотрел мои документы – «социально опасный».
– Вор?
– Да вы с ума сошли! Тогда так давали…
– Ну, не знаю, не знаю…
И я едва не был выброшен за порог.
Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму.
В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя-стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который и разъяснил молодому следователю, что «тогда, в двадцатые годы, давали так, не смущайтесь», и, обращаясь ко мне:
– Вы за что именно арестованы?
– За печатание завещания Ленина.
– Вот-вот. Так и напишите в протоколе и вынесите в меморандум: «Печатал и распространял фальшивку, известную под названием «Завещание Ленина».
И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Было это в январе 1937 года в городе Москве, во Фрунзенской «секции революционной законности», как именовались тогда местные НКВД.
В дневнике Нины Костериной ее отцу дают в 1938-м – СОЭ. Мне этот литер давали в 1929 году. Следствие вели по 58-й (10 и 11), а приговорили как СОЭ, чтоб еще больше унизить – и меня, и товарищей. Преступления Сталина велики безмерно.
И все-таки я не один был в уголовном вагоне с пятьдесят восьмой статьей. Со второй полки глядели на меня добрые серые глаза, крестьянские глаза молодого парня. Терешкин была его фамилия. Это был красноармеец, отказавшийся от службы по религиозным соображениям.
Вагон наш то отцепляли, то прицепляли к поездам, идущим то на север, то на северо-восток. Стояли в Вологде – там в двадцати минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку. Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас, на Пермь. Опытным было ясно – мы едем в 4-е отделение УСЛОНа на Вишеру. Конец железнодорожного пути – Соликамск.
Был март, уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь – СЛОН – Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли.
Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерный, тот будет похуже.
В Соликамске сгрузились – арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга – с Кубани, с Дона, из Грузии. Мы познакомились. «Троцкистов» не было ни одного.
Была даже женщина – зубной врач – по делу «Тихого Дона». Этап был человек сто, чуть побольше.
Всех завели в сводчатый подвал Соликамской городской милиции, в бывшей церкви. Крошечный низкий подвал. А нас 100 человек. Я вошел одним из первых и оказался у окна, застекленного окна на полу, с витой церковной решеткой.