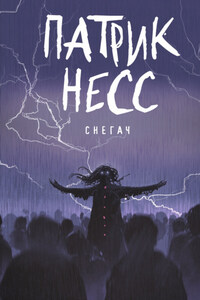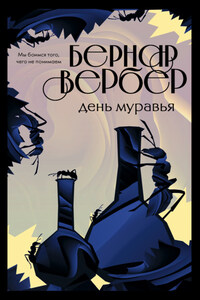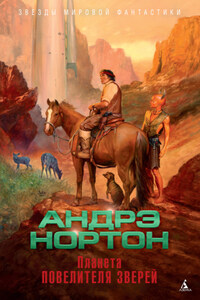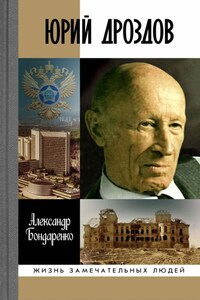– Шум выдает тебя, Тодд Хьюитт.
Голос…
Во тьме…
Я моргаю, открываю глаза. Все расплывается кругом тени мир плавно вращается в крови слишком горячо в мозгах вата невозможно думать темно…
Я снова моргаю.
Стой…
Нет, стой…
Вот сейчас, вот только сейчас мы были на площади…
Только шшто она была у меня на руках…
Умирала у меня на руках…
– Где она? – выплюнул я в темноту.
На языке кровь, голос треснутый, Шум внезапно взмывает ураганом, высоко, ало и яростно.
– ГДЕ ОНА?
– Спрашиванием здесь занимаюсь я, Тодд.
Этот голос.
Его голос.
Где-то во тьме.
Где-то за мной, невидимый.
Мэр Прентисс.
Я снова моргаю. Сквозь мглу начинает проступать обширная комната. Единственный источник света – окно, большой круг, далеко и высоко вверху, стекло не прозрачное, а раскрашенное: наш Новый мир и две его луны. Свет наискось падает на меня – только на меня, больше ничего не видно.
– Што вы с ней сделали? – спрашиваю я вслух, громко, смаргивая потекшую в глаза свежую кровь.
Тянусь стереть ее, но руки связаны за спиной. Паника я принимаюсь биться рваться в веревках дыхание частит я снова ору:
– ГДЕ ОНА?
Из ниоткуда обрушивается кулак и бьет меня в живот.
Я сгибаюсь пополам и тут только понимаю, шшто привязан к деревянному стулу ноги – к его ножкам рубашка осталась где-то на пыльном холме меня рвет на пустой желудок ага внизу ковер все с тем же рисунком Нового света и лун он повторяется повторяется тянется хрен знает куда не заканчивается…
Я вспоминаю: мы были на площади… на площади, куда я прибежал, притащил ее, уговаривая не умирать, уговаривая жить, жить, пока мы не окажемся в безопасности, в Убежище, штобы я мог ее спасти…
Но никакой безопасности не случилось и никакого спасения тоже а случились только он и его люди и они ее у меня забрали они ее вынули прямо у меня из рук…
– Вы обратили внимание: он не спрашивает, где я? – сказал голос мэра, плывя себе куда-то там, в темноте. – Его первые слова были «Где она?» И, заметьте, Шум говорит то же самое. Любопытно.
Голову у меня дергает болью и живот тоже, я еще немного прихожу в себя и вспоминаю… я с ними дрался! дрался, когда они ее у меня отобрали… пока мне не прилетело прикладом в висок и не выкинуло во тьму…
Я проглотил ком в горле, а вместе с ним панику и страх… постарался, по крайней мере…
Потому што это же все равно конец, правда?
Конец всему вообще. Мэр меня поймал.
И ее.
– Если вы сделали ей больно…
В животе было еще больно от тумака.
Передо мной стоял мистер Коллинз, наполовину в тени. Мистер Коллинз, который растил пшеницу и цветную капусту и смотрел за мэрскими лошадьми, теперь стоял надо мной с пистолетом на взводе, с ружьем за спиной, и его кулак уже взлетал, шштобы снова мне врезать.
– Ей и так уже крепко досталось, Тодд, – сказал мэр; кулак завис в воздухе. – Бедняжка.
Кулаки у меня сжались в путах. Шум был весь какой-то комковатый и битый, но все равно взвился при одном воспоминании о наставленном на нас ружье Дэйви Прентисса… о Виоле, падающей мне в руки… о том, как она истекает кровью, хватает воздух ртом…
А потом он стал еще краснее, потому шшто я вспомнил, с каким ощущением мой собственный кулак въехал Дэйви в рожу… как Дэйви полетел с коня… как конь поволок Дэйви прочь с застрявшей в стремени ногой, точно какую-нибудь падаль…
– Ага, – сказал мэр. – Это, по крайней мере, объясняет таинственное отсутствие моего сына.
И, што самое странное, голос звучал так, словно это его почти… позабавило.
Но только звучал. Только голос – более острый, четкий и звонкий, чем когда-то в Прентисстауне… потому шшто ништо, большое ништо, которое я от него впервые услышал, когда бежал в Убежище, никуда не делось – оно все еще было здесь, в комнате или што это там у них еще, и рядом с ним зияло еще одно такое же громадное ништо, от мистера Коллинза.