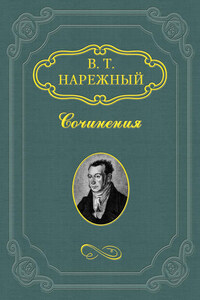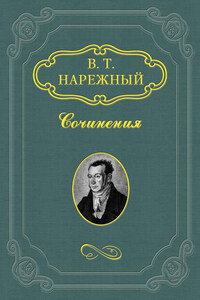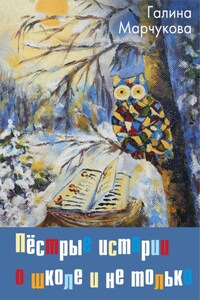Девятнадцатого июня скончался на Афоне игумен русского Пантелеймоновского монастыря архимандрит Макарий. В телеграмме, полученной через Афины «Моск<овскими> ведом<остями>», сказано, что смерть его была почти внезапная. Он сам служил литургию и только что стал разоблачаться, как вдруг его поразил удар.
Окончить самому литургию, последний раз совершить великое таинство евхаристии и умереть!
Счастливая кончина, – вполне достойная его долголетних подвигов, его святой жизни, его прекрасной души!
Я знал лично отца Макария; знал его даже коротко, потому что сам целый год прожил на Афоне 17 лет тому назад (<18>71 – <18>72), постоянно пользуясь его гостеприимством в Руссике.
Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества и вместе с тем вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже – в некоторых случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова, т. е. с виду изящный, веселый и общительный. Не знаю наверное, каких лет он скончался, но думаю, что около 70 лет – 66–67, быть может. В бытность мою на Афоне, в <18>72 году, я помню, он как будто говорил мне тогда, что ему 48 лет. Он был в то время чрезвычайно подвижен и бодр. Седых волос в его черной и длинной бороде еще мало было.
Родом отец Макарий был из тульских купцов, из богатой и весьма известной в России семьи Сушкиных. Звали его (кажется) Михаил Иванович.
Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он, по просьбе моей, рассказывал мне многое о своей прежней жизни в миру и о своем удалении на Св<ятую> гору.
Ему не было еще 30 лет, если не ошибаюсь – всего 25, когда он постригся против воли отца.
Мать его была очень набожная и добрая женщина и, как он мне сам говорил, имела на него большое влияние.
Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья <18>40-х годов: помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывал и на балах, танцевал, по собственному признанию – даже охотно читал и кой-какие романы, курил трубку; думал иногда, конечно, и о невестах. Но при всем этом девственность свою он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений.
Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. «Когда и жених, и невеста оба вступают в брак девственниками – ангелы Божий радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их», – говорила ему мать, – и эти слова ее производили на юношу, по его собственному мне признанию, глубокое впечатление.
– Я думал, – говорил он мне с чувством, – что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу, а мне и вспомнить об этом было даже больно.
Потом прибавил смеясь: «Ну и о невестах думал, и были барышни очень красивые, с которыми танцевать приходилось, и танцевать я был не прочь».
Я помню, до чего мне было приятно на суровом и дальнем Афоне в <18>70-х годах видеть этот мгновенный просвет на веселую прежнюю жизнь наших провинций и слышать эти простые и живые признания от одного из величайших аскетов нашего времени!
Такого рода рассказы и признания, вовремя и кстати произнесенные опытными монахами, чрезвычайно ободрительны не только для начинающих послушников, которых нередко отпугивают будущие тягости иноческой жизни, но и для мирян, желающих подчинить хоть сколько-нибудь свою жизнь учению воздержания и понуждения. Когда мне случалось в тяжкие минуты какого-нибудь нравственного или телесного изнеможения открывать душу мою этому умному, благородному и святому человеку и он говорил мне: «Понудьте себя, – только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное!»