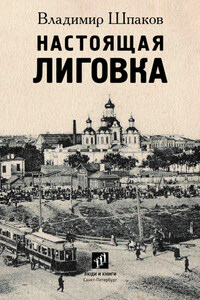1
– Зачем куда-то идти?! – недоумевает она. – Не понимаю!
Ковач молча натягивает кожаный плащ, обматывает вокруг шеи грубый вязаный шарф.
– В городе ничего не работает!
Он вставляет ногу в ботинок, помогает себе ложечкой.
– У нас забастовка, понятно?!
Вторую ногу тоже в ботинок, теперь надеть берет, и вот, полностью экипированный, он уже у двери.
– Может, ты на него повлияешь? – обращаются ко мне. – Там же снег! И все бастуют!
Но я пожимаю плечами. Бесполезно отговаривать, не послушает (и вообще в доме дубак, лучше уж по улице болтаться).
Я тоже одеваюсь быстро, чтобы не видеть глаз, в которых плещет паника. Она всерьез считает, что жизнь за стенами дома остановилась, там холодно и пусто, как в космосе. Магазины закрыты, школьники сидят по домам, одни обдолбанные африканцы торчат на пустынных перекрестках. Африканцы злые, им нужны бабки, чтоб купить наркоту, а тут мы! К нам, конечно, пристают, мы по неопытности называем детей Африки «неграми», и понеслась душа в рай (в буквальном, можно сказать, смысле).
В последней попытке остановить безумцев она втискивается между нами и дверью.
– Останьтесь, а? Посидим, выпьем чего-нибудь…
Он молча отстраняет ее. Щелчок замка, холодный воздух из дверного проема, и мы на свободе.
– Ну и пошли вы… – слышится в спину. – Когда вернетесь, звоните настойчивее! Я буду спать!
Про общенациональную забастовку мы слышим со дня приезда, мол, страна полностью замрет, даже полицейские не выйдут на работу. Начинала она, затем вступал Свен, и в два голоса семейная пара пыталась застращать пришельцев из того мира, где забастовка – детский лепет в сравнении с остальным. На самом деле она просто не хочет отпускать Ковача. И с нами ходить не хочет, потому что страдает агорафобией.
Ковач движется впереди, иногда скрываясь за пеленой снегопада. Вряд ли мы идем правильно: позавчера вот так же продвигались куда-то, ведомые Ковачем, чтобы оказаться на краю местной географии. Похоже, у него потребность в движении как таковом. Он и дома не может усидеть на месте: то растапливает камин, то чинит скрипящий стул, то листает философские книжки (а то ж!). Или уединяется в мансарде с ней, и тогда кажется: весь дом приходит в движение. Откуда в тебе столько энергии, Ковач? Здешняя жизнь замерла, будто в анабиозе, ты же работаешь, как перпетуум мобиле, не останавливаясь ни на минуту. От такого «мобиле» подзаряжаешься, как от сети в двести двадцать вольт, потому тебя и отпускать не желают.
Проезжая часть покрыта снегом, в лужах поблескивает лед. Собачий холод в этой Бельгии, она похожа на Антарктиду. А Ковач в своем черном плаще похож на пингвина. Говорят, императорские пингвины могут преодолевать десятки километров, но там-то понятно: они идут к воде. А мы куда? Раньше мы любили забредать в кафе или в магазины, теперь же витрины погашены, двери кафе закрыты, а на остановке, где всегда толпились люди, ни души.
– Автобусы не ходят, похоже… – говорю, добравшись до пластикового павильона.
Ковач криво усмехается.
– И поезда не ходят. И заводы стоят. Но это не выход.
– Почему? Люди за бабки бьются…
– В таком случае они обречены.
Фишка в его стиле, такими репликами он доводит Свена до белого каления. То есть, до крайней степени возмущения, раскаляться бельгийский профессор не умеет, так, булькает, но не кипит. Глупый профессор, он ввязывается в дискуссии с Ковачем, которого невозможно переспорить, во всяком случае, на философском факультете, где читает курс мой «пингвин», этого никому не удавалось. Только Свен не знает об этом, в нем просыпается и нудит европатриот, хотя проснуться, по идее, должен кто-то другой. Сказать, что их отношения странные, значит, ничего не сказать. Они «треугольные», причем один угол (профессорский) упорно делает вид, что двух других не существует. Типа не догадывается,