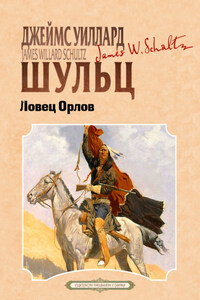На вид Танзиле едва ли можно было дать тринадцать лет. Миниатюрная, худенькая девочка. Из-под выцветшего платка виднелись две ровные пряди смоляных волос. Как у отца. Если бы пошла в мать – были бы цвета соломы. Обычно она была как юла, не могла усидеть на месте. За эту неугомонность часто попадало от матери. Но, несмотря на свой озорной нрав, глаза были задумчивые, печальные, словно познала все горести этого мира.
Но сегодня была сама не своя. В глазах плясали искры, она словно пританцовывала на месте, душа чего-то ждала, куда-то рвалась… Мать, худощавая женщина лет тридцати пяти, положила руку ей на плечо, устремив взгляд на репродуктор, висевший на столбе. Словно пытаясь унять её волнение, она то и дело сжимала пальцы на плече дочери. Иногда Танзиле доставался и укоризненный взгляд, но девочка не обращала внимания, целиком поглощённая своим внутренним миром – полным надежд, энергии и нетерпения.
У столба, возле конторы, собрались люди, чтобы послушать радио. Все были серьёзны. Кто-то почернел лицом, кто-то, сдерживая ненависть, поджал губы, кто-то нахмурился и сжал кулаки, кто-то отстранённо смотрел по сторонам, отрешившись от мира, а на чьих-то лицах играли тайные нотки торжества. Хотя все были из одной деревни, новость, прозвучавшая по радио, каждый воспринял по-своему.
Какими ветрами занесло эту весть в деревню Качкы, что в Смоленской области, недалеко от границы с Белоруссией, но люди с самого утра шептались:
– Говорят, война началась. Немцы напали.
– Ох, господи, что же теперь будет…
– Да наши их мигом вышибут!
– Может, и к лучшему это… Не больно-то советская власть нас жаловала…
– Да ладно вам, сплетни всё это. Говорят же, у наших с Германией договор. О мире.
Новость передавалась из уст в уста, но мало кто верил в её правдивость. И раньше говорили о вооружённых столкновениях на границе. Но ни разу это не подтвердилось, во всяком случае, официально. Но на этот раз весть о войне была правдой. К полудню по деревне разнеслось: "По радио про войну говорить будут". У кого не было срочных дел, заранее заняли удобное место у столба с репродуктором. У кого дела были – старались далеко не отходить, работая и прислушиваясь к радио.
Вскоре раздался голос народного комиссара иностранных дел Молотова. Его слова: "Граждане и гражданки Советского Союза!" – в мгновение ока собрали у столба всех жителей деревни. Многие бросили работу, забыв про вилы и грабли.
Качкы была старинной татарской деревней, но после революции, сослав одних в Сибирь, расстреляв других, население сильно поредело, и сюда переехали люди разных национальностей. Хоть и не общались они так тесно, как прежде, но и открытой вражды не было, жили дружно. Теперь это была обычная деревня, где жили советские люди разных национальностей, а не только татары.
Мать с Танзилей тоже ворошили сено на лугу на окраине деревни. Услышав голос, они, как и все, бегом прибежали к столбу. Первые же слова Молотова показались девочке забавными. Он сказал не "гражданки", а как-то странно – "граждынки". И не только Танзиле это показалось странным. У столба её догнала подруга Наташа:
– Эй, граждынкы, куда торопишься, – смеясь, она тронула Танзилю за локоть.
Обе звонко рассмеялись. Но мать Танзили тут же одёрнула их:
– Рты закрыли! – сказала она, отводя дочь подальше от Наташи. – Тут не до смеха. Война началась.
Танзиля постаралась больше не смеяться, не показывать радость, которая бурлила внутри неё. Но всё равно она словно пританцовывала на месте, и чем больше осознавала серьёзность слов, звучавших из репродуктора, тем больше ей казалось, что за её спиной растут крылья.
– Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы, – продолжал Молотов.