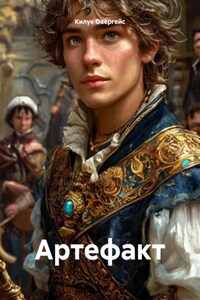Царица уронила путеводную нить.
Пахло можжевельником, сосной, ясноткой[1]. Сгущались тени. Царица бежала по мокрой тропе, кривые ветки царапали щёки. На дворе стояла ранняя яблочная осень, но чем ближе было к Край-Болоту, тем холодней делался воздух, стыл, и тропа отзывалась ледяным звоном.
Высоко в кронах роились шорох и свист. Царица вскинула голову. Застыла, прислушиваясь. Всю дорогу от дворца заметала следы; ни зверь, ни птица не должны были её заметить. Но здесь, у Край-Болота, не только звери водились, не только птицы.
Тряхнуло ветви. В этот раз царица разглядела: вспорхнула пичуга, понеслась к ясному тёплому солнцу высоко над лесом. У корней же, между стволами, змеилась тьма. Царица постояла, прижав руку к груди, глубоко вдыхая можжевеловый дух. Тянулись уже тонкими жилами болотные запахи: гниль, багульник, сосновая смола. А впереди, там, где тропа заворачивала к берегу, мигали, маня, огни…
Немного. Совсем немного осталось.
Царица наклонилась, подхватила упавшую нить. Путеводная паутина мерцала серебром, вилась впереди – тонкая, но и сам владыка не оборвёт. Намотала на палец и пошла, побежала дальше, отталкиваясь от шершавых стволов. Ладони кровили, ноги сбила, но чувствовала: совсем, совсем близко Край-Болото. Тенью пахло. Пеплом, углями, берестой, свечами белыми. А к тому же – палыми листьями, поздней ясколкой[2], шалфеем.
Царица закрыла глаза. Шагнула за поворот. Нежно, едва уловимо повеяло дождём, мокрым камнем. Открыв глаза, увидела она Край-Болото. Всюду посветлело: вышли из лесу молодые берёзы, спустились к самой кромке – молчаливые, как невесты. По тине стелилась дымка, над водой стоял лебединый клик. Холодно и весело стало на душе. Путеводная нить выскользнула из рук и опустилась в болото, под цветы одолень-травы́. Царица нагнулась, вглядываясь в оконца ряски. В первый миг ничего не увидела, и во второй ничего. А в третий сердце подпрыгнуло, заметалось в груди. Спёрло дыхание; пёстрые пятна поплыли перед глазами. Царица опустилась на колени у болотной кромки, склонилась к самой воде. Там, в лазоревой мгле, в лаловой[3] глубине вилась узкая тропка меж осин. По правую руку шло знакомое всхолмье, по левую вставали околицы Звериной земли, батюшкин кривой сад. Царица, забывшись, потянулась вперёд… Пальцы обожгло ледяной водой, гладь зарябила, исчезли и тропа, и угорья.
Царица, сжав зубы, опустила руку по локоть, но нащупала только скользкий ил. Корни обвили запястье, потянули вниз, впиваясь, царапая. Царица, охнув, отпрянула. Онемели пальцы – кто знает, когда отойдут.
Заломило запястье, холод дошёл до локтя – будто змея ужалила. Придерживая заледеневшую руку, царица снова вгляделась в воду. Болото успокоилось, разошлась ряска. Лучше прежнего стали видны узкие стёжки Те́ни. Потянуло туда с такой силой, что взвыть захотелось. Домой. Домой! Только как? Подскажи, владыка!
Царица сцепила пальцы, опустила голову. Венец давил, так и норовили выскользнуть косы.
Домой.
Блеснула в глубине путеводная паутина. Показалось или зовёт кто?
Царица распахнула глаза.
Близко-близко была вода. Ворчали колпицы[4].
Домой!
Далеко, глухо разносилось ворчание над болотом.
Царица склонилась ещё ниже. В нос ударил запах тины, влажной лягушачьей кожи. Ледяная вода коснулась лба. Царица зажмурилась, набрала воздуха и опустила лицо в болото.
Словно иглы вонзились в кожу – те, серебряные, которыми тени прорехи штопали. В носу закололо, от темени до пят прошило ледяным сабельным ударом, потянуло вниз. Царица беззвучно закричала: не было под тиной ни троп, ни башен. Только подводные корни, болотные норы, листья, осока, цепкие стебли – потянулись к лицу, захлестнули шею. Царица ощупью искала на берегу, за что ухватиться: хоть за корягу, хоть за камень… Пальцы скребли сырую землю, впивались в неё, а кувшинки манили вниз, слышались издали болотные колыбельные.