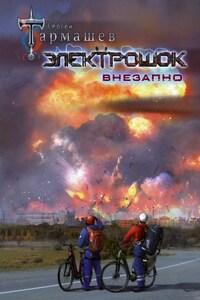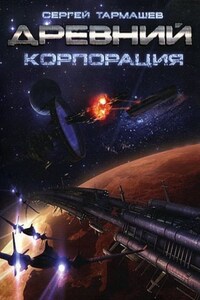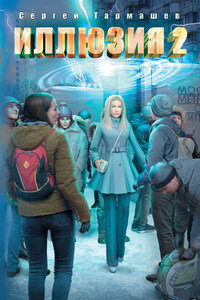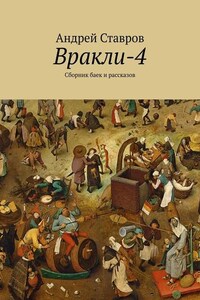Цюрих, Швейцария, частная клиника нобелевского лауреата в области медицины доктора Кугельштайна, 22 октября 2011 года, 14 часов 34 минуты, время местное.
Обширное стерильно белое помещение операционной было заполнено сложнейшими лабораторными установками и сверхсовременной медицинской техникой, переливающейся мониторами компьютерных интерфейсов. Два с половиной десятка специалистов, ассистирующих Кугельштайну, не сводили глаз с экранов, по которым непрерывными потоками бежали строки данных о ходе проводимого синтеза. Застывшие перед приборными панелями люди, облачённые в медицинские скафандры биологической защиты, более напоминали движущиеся гипсовые изваяния, установленные неизвестным скульптором посреди высеченной из мрамора футуристической композиции. При взгляде со стороны возникало ощущение, что и технику, и её операторов сначала поместили внутрь этого помещения, а после выкрасили одной краской и то, и другое.
Сам нобелевский лауреат находился посреди своей операционной, у станины напичканного электроникой нейрохирургического стола, совмещённого с трубой ядерно-магнитно-резонансного томографа и десятком иных приборов. Пожилой гений от медицины напряжённо вглядывался в один из пятидесятидюймовых плазменных мониторов, укреплённых под потолком в непосредственной близости от хирургической зоны. Наконец что-то негромко звякнуло, и на экране высветился ряд столбцов с цифро-буквенными обозначениями.
– Господин профессор! – один из ассистентов обернулся к седому учёному. – Синтез завершён успешно! Стабильность препарата девяносто девять и восемьдесят три сотых процента! Начинает падать, скорость распада полторы сотых процента в секунду!
– Наполняйте инъекторы! – распорядился доктор Кугельштайн и склонил голову к лежащему на хирургическом столе немолодому абсолютно лысому человеку, бледную кожу головы которого покрывала сеть коротких шрамов. Накрытое стерильной медицинской простынёй рыхлое тело пациента непроизвольно подрагивало от сотрясавших его приступов боли, и по лицу больного скользили гримасы страдания.
– Синтез прошёл практически идеально, в нашем распоряжении порядка восьмидесяти восьми секунд. Этого более чем достаточно! – Немецкий акцент профессора придавал его английскому немного отрывистые интонации, отчего казалось, что Кугельштайн говорит короткими рублеными фразами. – Вскоре вы сможете вздохнуть спокойно, мистер Лозинский! – Седовласый нейрохирург перевел взгляд на замерших в ожидании указаний анестезиологов и лаконично распорядился: – Начинаем. Подавайте хлороформ!
Один из врачей аккуратным движением прижал к лицу пациента прозрачную дыхательную маску, тщательно следя за тем, чтобы исключить неплотное прилегание и одновременно не доставить дискомфорта столь важному ВИП-клиенту. Второй специалист уже регулировал подачу газовой смеси, ежесекундно сверяясь с кривой кардиограммы и показаниями дюжины других датчиков, густой сетью проводов опутывавших пациента. Взгляд Лозинского затуманился, и спустя пару секунд его глаза закрылись.
– Пациент под наркозом! – сообщил анестезиолог, на всякий случай сверяясь с приборами.
– Транспортёр! – коротко велел Кугельштайн.
Ближайший ассистент утопил кнопку на приборной панели, и нейрохирургическое ложе с пациентом под тихое жужжание двигателей плавно скользнуло в трубу операционного стола. Толстая крышка захлопнулась, запечатывая его внутри, и несколько секунд автоматика проверяла внутреннюю атмосферу трубы на герметичность и стерильность. Мониторы системы контроля микроклимата вспыхнули разрешающими сигналами, и нобелевский лауреат кивнул помощникам:
– Делайте надрезы! – Он сверился с центральным экраном: – У вас есть тридцать восемь секунд!