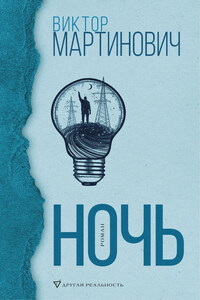1
Раньше такой хамской погоды не было. Раньше снег был ленивый, падал не спеша, прогуливаясь с неба на землю, как сытый ангел. Но настал октябрь семнадцатого, и погода озверела. Революционный снег царапает человека до крови, словно из разбитых часов кто-то вытаскивает и швыряет вам в лицо колючие колесики.
Время летит впереди человека. Год прошел, как не было, в красно-белой круговерти, зима явилась ранняя и злая даже для Сибири; так всегда бывает на переломах истории, словно бы мало людям других бед.
Метель наскочила на станцию «Тайга» внезапной кавалерийской атакой и загнала пассажирское стадо в маленький душный вокзал. Там было тесно и тоскливо, как в Чистилище. Дымила печь, хныкали дети, ругались незнакомцы. Счастливые обладатели узлов и чемоданов расселись, можно сказать, по нынешнему времени, с комфортом. Путешествующие налегке обреченно переминались с ноги на ногу.
– Зал ожидания у моря погоды, – сказал господин с лицом желтым, как бульварная газета, покосился на стоявшего рядом железнодорожного служащего в форме и ехидно добавил: – А погода навикжелила[1].
Железнодорожный служащий хотел отодвинуться и потревожил соседа.
– Да не елозьте вы, саботажник! – потребовал сосед, мужичок в лисьей шубе, по виду городской крестьянин с запросами. Он взмахнул перед лицом железнодорожника часами так яростно, что чуть не оторвал цепочку. – Двенадцатый час ночи! Где, я вас спрашиваю, поезд? Мне в Омск нужно!
– Телеграфируйте адмиралу. Пусть пришлет за вами катер, – огрызнулся железнодорожник.
– Вы слышали? Слышали, что он говорит? – Взвизгнула лисья шуба. – Это же агент Совдепа!
Голос у мужичка был гнусный… хотелось его обладателя запломбировать в вагон и малой скоростью отправить в красную Москву… пусть там расскажет про свое важное омское дело. Но деваться было некуда, вьюга стучала по входной двери ледяным кулаком. Желтолицый господин возвел глаза к потолку и стал напевать какую-то шансонетку на мотив «Боже, царя храни».
– Зинаида прислала оттуда письмо с японским дипломатом, – нашептывала подруге красивая дама. – Представьте, на Литейном она видела отца Павла в летней одежде, а на шее у него красный короб с игрушками. Прохожие идут мимо, никто не интересуется. Зинаида хотела купить что-нибудь из жалости, подошла, – а это не короб, а гробик, а там младенец, а на нем бумажный венок. Так печально.
В углу сама собой зашевелилась груда синего тряпья, поползла вверх вдоль стенки, вытянулась и превратилась в огромное пальто. Осторожно, как муха из чернильницы, выглянул оттуда некто длинноволосый, заспанный. Лицо совсем юное, раньше бы сказали – студент, а теперь – кто его знает. Голова покрутилась в просторном вороте и нырнула обратно.
– Еще Зинаида написала, что в Москве нельзя купить даже сушеной селедки, а комиссары едят людей. В газетах пишут, что расстреливают, а на самом деле – едят. Так печально.
Синее пальто застонало, дама вздрогнула. Длинноволосый снова высунул голову из ворота, теперь на носу у него были очки в металлической оправе, он воздел длинные руки над головами печальных женщин, словно хотел забраться на убогую люстру. Потом вдруг заколыхался в своем пальто, как в колоколе, и молитвенно взвыл на весь зал:
– Господа! Что вы делаете, вы же все большевики, господа! Посмотрите на себя, вы все большевики!
Пожилой священник в черной штопаной рясе, собиравшийся закусить у буфета неаппетитной серой плюшкой, перекрестился. Офицер с новеньким бело-зеленым шевроном сибирской армии на рукаве громко потребовал:
– Замолчите!
– Все, все большевики, – повторял юноша, раскачиваясь из стороны в сторону и возмущая общественность.