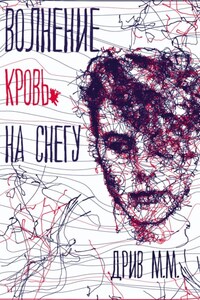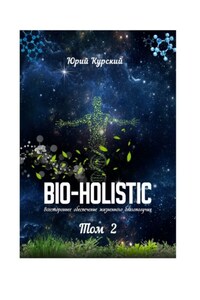Петр проснулся среди ночи от кошмара. Жуткое видение преследовало его третий месяц, и казалось, это будет длиться бесконечно. Самым ужасным было то, что каждый раз ощущения от увиденного и пережитого во сне не притуплялись, а, наоборот, становились все ярче и острее. Петр перепробовал все: снотворное, бег перед сном, коньяк, секс. Да, он надеялся, что ночь с очередной красоткой подарит забытье. Но под утро кошмар приходил снова.
Сновиденье всегда начиналось одинаково, и Петр знал: отдохнуть не получится. Опять. Сначала перехватывало горло – все мышцы сдавливало. Потом судорога опускалась ниже, до самой диафрагмы, перекрывая кислород, и легкие готовы были разорваться. Он не мог дышать. Почему? Ему и правда не хватало воздуха? А может, это страх душил его? Ледяной, обжигающий, мертвящий ужас, разливающийся по телу и вводящий сознание в ступор. Петр не мог проснуться – так сильно парализовал страх. Или он просто не понимал, что уже не спит?
…Сознание (сознание ли?) насмехается над ним. Он чувствует, что стены спальни расплываются и превращаются в глубокое озеро. Осень. По серо-зеленой воде мелкой дрожью бегут волны, хотя ветра нет. Странно: на озере в середине октября нет ветра? Но ни одна травинка не шелохнется. И стоит жуткий холод. Такое впечатление, что мороз идет из-под земли, перемешивается с воздухом и столпом уходит ввысь. Так зябко, что кажется, наступил декабрь или январь. По ощущениям – сильный минус, хотя снега тоже нет. Только продирающая до костей, до самого мозга дикая стужа, которая воспринимается как нечто живое.
Петр поднимает голову и видит над собой небо. Оно такого же цвета, как и озеро. Все вокруг серое, сизое, болотно-зеленое, но светлые вблизи оттенки переходят в почти угольную черноту на горизонте и высоко в небесах. И он уже не понимает, где заканчивается озеро и начинается небо. Или это не озеро, а сплошная серо-черная масса, душащая своим ледяным безразличием и страхом?
Страх? Откуда страх? Никого же нет, кроме него самого и озера?
Стоит об этом подумать, и Петр чувствует, что ему в спину кто-то смотрит. Будто под лопатку втыкается невидимый тупой нож.
– Да кто тут может быть? В такой холодрыге? – спрашивает он сам себя.
Петр оборачивается и видит метрах в трех от себя маленькую старушку. Росточком едва ему по плечо, лицо спокойное, с мягкими чертами, сплошь покрыто глубокими морщинами. Взгляд серо-зеленых глаз безмятежен, только в самых уголках пляшут веселые искорки. Волосы убраны под большой цветастый красный платок. Одета в старомодную, будто не из нашего века светло-серую меховую пушистую кофту и длинную юбку в пол. Стоит, не шелохнется, словно древний идол – каменное равнодушное изваяние, которое было здесь до тебя и будет еще долго после того, как тебя не станет.
Почему-то мелькает мысль: «Хорошо, хоть платок выделяется ярким пятном на фоне безрадостного серого пейзажа».
Старуха говорит спокойным, ровным тоном:
– Здравствуй, мил человек. Не поможешь бабушке через озеро перебраться?
– Мне не надо на ту сторону. Да и лодки и у меня нет.
Собственные слова удивляют Петра: зачем он оправдывается перед бабкой? Обычно он легко говорит «нет». Может, это профессиональная деформация, но он привык все подвергать строгому анализу, делать выводы и только потом что-то предпринимать, а не бежать сломя голову помогать кому-то. А сейчас что же? Тембр голоса, что ли, у старушки такой? Он сам этого не понимает. Никак загипнотизировала она его?
– Петрунечка, помоги бабушке, – жалобно как будто выпевает старуха.
Откуда она знает его детское прозвище? Петра так никто не называл много лет – ровно с тех пор, как не стало его любимой родной бабушки.