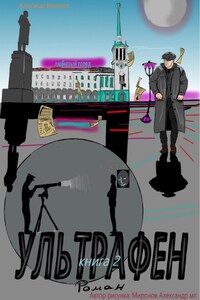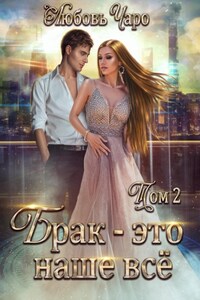Повесть
«Тебя называю по имени-отчеству,
Святая как век деревенька моя.»
Гундарев В.
В память о моей деревне.
Осенью Сураново опустело. Но произошло это не так, как хотелось бы Мирону Суранову и его жене Матрёне, а томительно и неотвратимо.
…Весна пришла дружная. К маю сошёл снег, дороги подсохли, и к Мирону с Матрёной, как ласточка по весне, приехала старая Груня. Привезла немудрящих гостинцев: комковой сахар, конфеток подушечки, мешок муки и накопившуюся за два месяца пенсию, которую ей доверяли на почте по заявлению пенсионеров Сурановых. И письмо.
Письмо было от Татьяны. Старик, надев старые тяжёлые очки в роговой оправе, распечатал его и стал читать.
"Спасибо вам, мои дорогие! За всё спасибо! Сейчас мы живём все вместе. Дети учатся. Я работаю на заводе подсобной работницей. Скоро сдам экзамены на формовщицу. Живём пока на квартире, Гриша ваш помог подыскать, недорогую. Спасибо ему… Он передаёт вам привет. Наверно, сойдётся с Марусей, детей жалеет. И правильно сделает…"
Мирон читал, не торопясь, как будто плохо разбирал торопливый почерк. Таня писала о городе, откровенно удивляясь тому, что её окружало, и чего нового появилось теперь в их жизни. Всё это старику доставляло большое удовольствие и тайную радость. И он не мог иначе скрыть своего состояния, как в неторопливом чтении. Но под конец послания вновь пошли слова благодарности, старик нахмурился и, зачитав в двух словах:
"До свидания. Целуем вас, Таня, Вася, Оля", – положил листочек на стол.
– Да, – вымолвила Матрёна, тронутая тёплым письмом. – Может быть, у них теперь всё образуется. – Поднялась, намереваясь прибрать со стола.
– Так счас у всех всё образуется, – сказала гостья. – Феофан-то сгинул, царстве ему небесное, – перекрестилась и вздохнула. – Эх-хе, пожил, покуролесил и помер незнамо как.
– Как помер?
Груня пожала щуплыми плечиками.
– А кто ж ево знат? Поговаривают, будто в Тёпленском логу чьи-то порты нашли, может евонные. – Посмотрела на них молчаливых и смущённо пояснила. – Исчез-то он ещё в крещение. Попервости будто искали, счас, видно, отступились.
Матрёна всхлипнула и чуть слышно проговорила:
– Может он к нам ишёл, на ребяток поглядеть… – и вдруг ойкнула, почувствовала, как какая-то жилочка в сердце как будто бы надорвалась. Пронзила тонкая боль, но от неё помутилось в голове. Старуха негромко простонала и начала оседать.
– Мотя, Мотя, што с тобой? – вскочил Мирон, подхватывая жену.
– О, Господи! – всполошилась Груня, проворно выскакивая из-за стола. Засуетилась, не зная, что делать, чем помочь.
Старик усадил Матрёну на лавку возле стола, и сипло крикнул:
– Воды подай!
Старуха метнулась к кадке, хлопнула ковшом о воду.
– Живей, Грунюшка!
Та, насколько ещё была способна, юрко крутнулась и, расплёскивая воду на подол длинной тёмной юбки, на пол, бежала к ним.
Мирон поднёс ковш к посиневшим губам жены, и вода потекла по щёкам, подбородку, не попадая в рот.
– Пей, пей…
Матрёна приоткрыла помутневшие глаза, хотела что-то вымолвить, но вода затекла ей в рот, в горло, и она взглотнула. Ей показалось, что боль в груди как будто бы приугасла. Взглотнула ещё раз и с трудом отвела голову от ковша. Судорожно вздохнула. Мирон отнял ковш.
– Ну как, Мотя, полегчало?
Матрена ответила лишь глазами, медленно прикрыв их. Потом негромко сказала:
– Прилечь бы.
– Груня, пособи.
Они осторожно подняли больную, и повели в горницу. Там Груня быстро сдёрнула с кровати одеяло. Матрёна с помощью мужа прилегла, с мелкими перерывами глубоко вздохнула, и только тут слабо улыбнулась; дескать, ничего, пройдёт… У старика тоже вырвался вздох облегчения. Он погладил жену по волосам, соглашаясь с ней и ободряя её. Лицо побледнело, будто больное сердце в тяжёлую минуту приливает к нему не кровь, а сыворотку, отчего под глазами чётче выделились бледно-синие круги, тёмные морщинки-лучики от многолетнего загара и ещё нос. Он обострился, и на кончике выступило молочное пятнышко. Это явление, как признак беды, больно отозвалось в сердце старика. Старик на какое-то мгновение задохнулся, в глазах вспыхнули чёрные круги и растворились в свете дня.