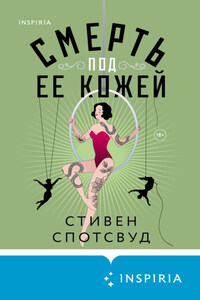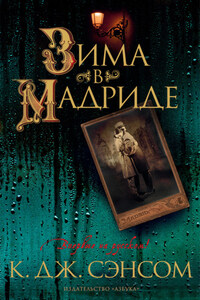Четверг, 13 февраля 1902 г.
Рут во весь дух неслась по темным переулкам. Снег заглушал топот ее сапог. Услышав протяжный, похожий на волчий, вой собаки, раздававшийся эхом над низкими крышами штетла[1], она остановилась и испуганно осмотрелась. Сердце бешено колотилось. Переведя дыхание, Рут побежала дальше. Старалась ступать легко, едва касаясь земли подошвами сапог. Было трудно быстро бежать, почти лететь, и при этом не поскользнуться.
Во всех окнах давно погас свет, жители еврейского квартала в галицийском городке спали. Тут и там ветер хлопал ставнями. Коровы мычали во сне в своих коровниках позади приземистых хижин.
Лишь бы никто не вышел, чтобы справить свою нужду за углом!
Рут продолжала бежать. Свернула из Сапожного переулка в Пекарский, где жила ее семья. Ей был знаком здесь каждый камень, каждый водосточный желоб, каждая черепица. Но в свете луны штетл казался чужим и словно заколдованным. Что за волшебник заколдовал его, злой или добрый? Кто его знает. Однако Рут знала наверняка, что ее поступок делал из нее прокаженную, неприкасаемую, отвергнутую собственными родителями и женихом. Узнав, что она сотворила, Рут проклянут быстрее, чем она успеет прочитать Шма Исраэль[2]. Но отчего же каждая клеточка ее тела излучала счастье? Затягивая потуже платок на своих густых локонах, Рут представила его – его руки, улыбку, запах кожи и клея, – и ее охватил озноб. Из-за родинки над губой юного сапожника прозвали Червовым Валетом. Прозвище шло ему, считала Рут. Он был чудесный, красивый и добрый, как ангел. Но не еврей. Запрет они нарушили уже в третий раз, в темном углу его мастерской, посреди ночи, и лишь снег, падающий за окнами, был тому свидетелем. Неверный поступок. Рут была сосватана Абрахаму Ротману и должна через считаные недели, еще до Песаха[3], стоять с ним под хупой[4]. Ее отец пригласил всю родню и знакомых: когда выдаешь замуж единственную дочь, мелочиться нельзя, как бы плохо ни шли дела. Жених – сильный и работящий подмастерье с коммерческой жилкой, который сможет занять место отца Рут в пекарне, когда тот состарится. Пекарня в этот день наполнится ароматами сдобных «косичек», маковой выпечки и кугеля. Мать всплакнет. Рут же, стиснув зубы, будет радостно улыбаться, как и подобает невестам. Но пока есть время, она не в силах противиться худому, размышляла она, приближаясь к родительскому дому. Худое кажется правильным.
Днем, когда она сидела с матерью и маленькими братьями в тесной избе или подметала двор, ночи представлялись ей чем-то ненастоящим. Как будто не она, Рут, бегала к чужому мужчине в сапожную мастерскую, а другая, падшая женщина, заплетавшая свои непослушные кудри в нетугие косички. Женщина, рисковавшая всем ради любви. Но стоило сумеркам накрыть штетл, как в груди Рут что-то екало, словно сапожник привязал к ее сердцу шелковую нить и тянул за нее каждый вечер. Она выжидала, пока родители заснут, напряженно прислушивалась к спокойному ровному дыханию братьев в спальне, и тогда уже, открыв створку низкого окна, выбиралась на ледяную улицу. Она знала, это было чистое сумасшествие: ведь ночи в мастерской могут иметь последствия. Как любила повторять старая София, помогавшая по понедельникам с уборкой в пекарне, любовь – это безумство, и причиняет беды, если потерять осторожность.