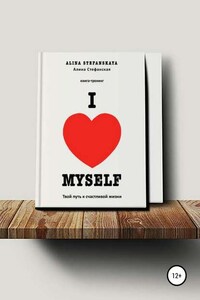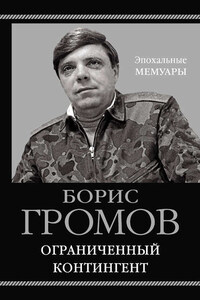Стоял хмурый сентябрь 1926 года. Падали листья, и дождь капал слезами отчаяния. На душе же у меня было совсем пасмурно. Мы только что переехали наконец в Москву из южной солнечной Одессы. «Наконец» – потому что я всю жизнь мою, как чеховские сестры, стремилась в Москву. Помнила ее еще довоенной, хлебосольной, развеселой Москвой, когда девочкой приезжала на Святки погостить к своему дяде – известному адвокату. Он баловал свою маленькую племянницу, возил ее на елки и вечера на санях, в театры и по знакомым, и вот эти-то детские сияющие воспоминания мучили меня потом всю жизнь. Моей мечтой была Москва.
Прошла молодость. Пролетели в тяжелом кошмаре революционные годы… А мечта осталась, но приняла несколько иные формы. Прорваться в Москву, а оттуда за границу. Знала, что из провинции я не смогу никогда быть командированной за границу. Но из Москвы – чем черт не шутит! Попавши же с сынишкой за границу, постараюсь там остаться, а Ватик к нам уж доберется. Ведь жить в Советской России – это гнить заживо, таить все в себе, никогда не говорить то, что думаешь, все душевные и телесные силы напрягать на добычу куска черного полусырого хлеба.
Да, нужно всеми силами стараться перебраться в Москву.
Мечта юности оформилась в горячее желание. Но в 1926 году Москва была уже совсем другой, чем в мечтах. Советской, съежившейся, грязной, скупой и мрачной. Муж мой, получивший службу в Центральном комитете профсоюза совторгслужащих, приехал из Одессы на два месяца раньше и много дней подряд посвятил поискам квартиры. Однако ни в самой Москве, ни в пригородах не то что квартиры, но и комнаты было не найти. Люди жили буквально в нечеловеческих условиях, ванные комнаты и даже неработавшие лифты были превращены в жилые помещения. Поэтому Ватик был рад когда ему в конце концов удалось нанять мезонинчик на станции Салтыковка в 20 верстах по Нижегородской дороге.
И вот с вокзала мы поехали прямо на дачу. В Одессе мы жили в самом центре, в двух шагах от Дерибасовской улицы, и, хотя там у нас тоже было только две комнаты, они были большими и светлыми, а главное – они были в городе. В Салтыковке же не было ни мостовых, ни тротуаров, ни освещения, и темной осенней ночью на улице приходилось зачастую трепетно стоять на одной ноге, потому что калоша с другой ноги застревала в непролазной грязи и потому что страшно было ступить дальше в одной туфле. Мезонинчик наш состоял из коридорчика, в котором два человека с трудом могли бы разойтись, и двух крохотных клетушек с бревенчатыми стенами, из которых вылезал войлок прослоек. Лавок в Салтыковке почти не было. Только один кооператив, в котором, кроме водки и морковного кофе, ничего нельзя было найти. Ясно, что я предчувствовала, какие тяжести мне придется таскать из города. А от станции до нашей дачи ходьбы было 20 минут.
Я, каюсь, человек, легко поддающийся настроению и импульсивный. Поэтому на следующее по приезде утро, лежа на импровизированной косоногой постели и смотря в маленькое оконце на гнущуюся от ветра оголенную березу, я впала в острое отчаяние, пустилась в слезы, стала упрекать себя и ни в чем не повинного мужа в том, что мы уехали из милой Одессы, а когда мой взгляд нечаянно остановился на крюке от лампы, мне всерьез захотелось повеситься.
Ваня и маленький мой сынишка Юрчик беспомощно вокруг меня суетились, уговаривали меня, как умели, Ваня даже несмело предлагал вернуться обратно в Одессу, но… жребий был брошен, в Одессе все корабли были уже сожжены, брошена служба, пересдана квартира. А в советских условиях пересдать квартиру – значит сделать нечто бесповоротное, ибо другой квартиры уже никак не найти. Все равно – Одесса это, Харьков или Москва. Рассудок восторжествовал, и я взяла себя в руки.