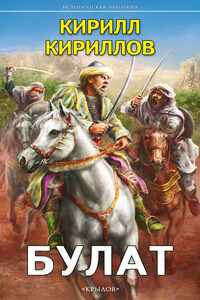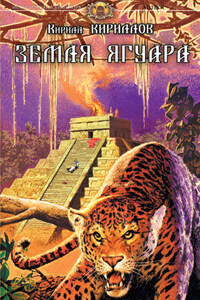Пот заливал глаза, ручьями стекал по спине. Влажный тропический воздух забивал легкие. Каждый удар сердца, с трудом гнавшего по венам густую кровь, молотками отдавался в висках. Плечи ломило от тяжести кирасы. Гудящие ноги не слушались, и с каждым шагом отрывать их от вязкой, жирной земли становилось все труднее. Стертые подошвы зудели. Хотелось прилечь, замереть, отгородиться от всего своей спиной и больше ни о чем не думать.
Но Мирослав не давал роздыху. Он то исчезал впереди за кустами, то возвращался, подгоняя изнемогающего от усталости Ромку, известного в Новой Испании как дон Рамон Селестино Батиста да Сильва де Вилья. А впереди почти всегда оказывалось одно и то же. Очередной отряд, либо криками и песнями загоняющий испанцев, либо сидящий в засаде и ждущий, когда те на них выйдут. Пока у конкистадоров оставались силы и боеприпасы, мешики вели себя осмотрительнее, а потом осмелели. Они устраивали настоящие облавы и травили испанцев как диких зверей. Тех, кто сопротивлялся, убивали, а тех, кто падал обессиленно или изнемогал от ран, вязали и волокли к лодкам, чтобы переправить через озеро в столицу. Но там их тоже не ждало ничего, кроме допроса, издевательств и смерти на жертвенном камне.
Иногда Ромке казалось, что им не выбраться живыми. В каждой тени чудился ему притаившийся враг. За каждым взмахом птичьих крыл слышался шорох оперения мешикской стрелы. Каждый цепляющийся за одежду сучок казался смуглой рукой, впивающейся в одежду и норовящей утащить в кусты. Но каждый раз, когда на молодого человека накатывала паника, Мирослав непостижимым образом оказывался рядом, бросал несколько подбадривающих слов и снова исчезал в чаще, оставляя Ромку наедине с усталостью и страхом.
Когда молодому человеку в очередной раз стало казаться, что он не выдержит, упадет в траву и зарыдает, Мирослав призраком появился из чащобы и скомандовал привал. Ромка облегченно уселся у могучего корня, растирая гудящие ноги. Богатая накидка из перьев, снятая с убитого мешикского касика, намокла, расползлась, и слипшиеся перья осыпались с нее, как с линяющей горлицы. Камзол превратился в лохмотья, покрытые бурыми пятнами высохшей крови, по счастью, в основном вражьей. Панталоны зияли прорехами, из которых скоро начнет вываливаться срам. От одного сапога подметка отлетела напрочь, и даже два локтя пеньки, намотанные поверх, не спасали от щекотки лесного мусора. Голенище второго было сверху донизу издырявлено чем-то тонким и острым. Но кто его так и чем, Ромка припомнить не мог, слишком уж много всего случилось за последнее время.
Похожие следы как-то оставил на его валенке клевачий кочет, когда он сопливым еще отроком приблизился к курятнику. Мерзкая птица предательски налетела со спины и всадила шпоры в ногу прямо через толстенный войлок. Ох и орал он тогда. Совсем, думал, порешит его петух. Но повезло. Кто-то из дворовых подбил злобную тварь поленом и на руках отнес истекающего кровью мальчика в подклеть. Там с него срезали наполненный кровью валенок, перевязали тряпицей и с причитаниями отправили отрока в дом – размазывать по щекам слезы и сопли пред светлы очи приемного отца – князя Андрея. Но тот не стал ругать. Улыбаясь в бороду, выслушал сбивчивый, прерываемый рыданиями рассказ о Ромкиных злоключениях, положил ему на голову широкую, теплую ладонь и сказал: