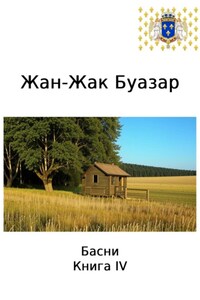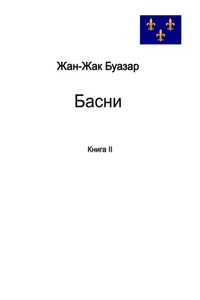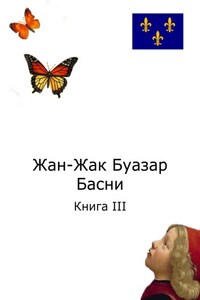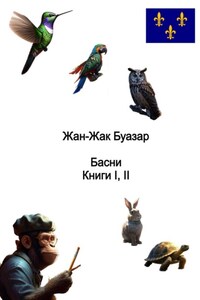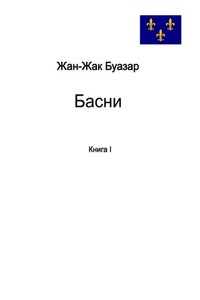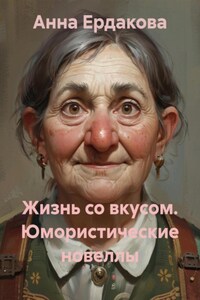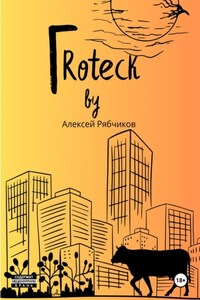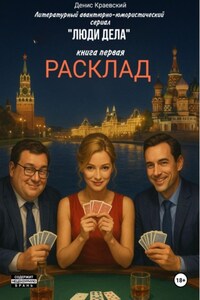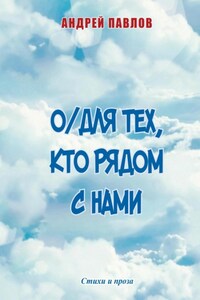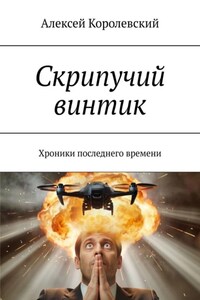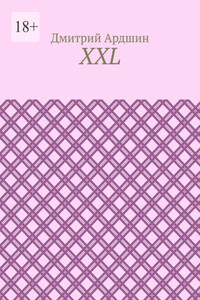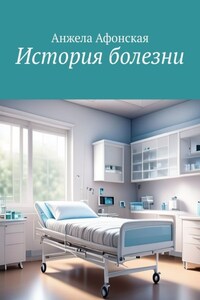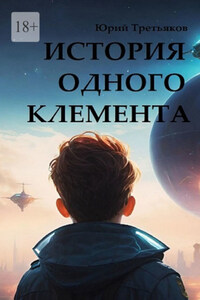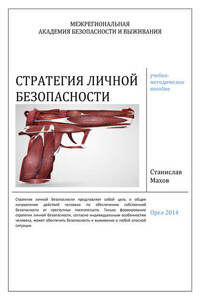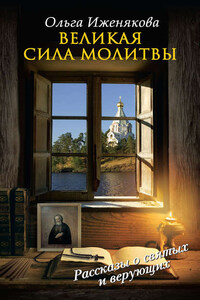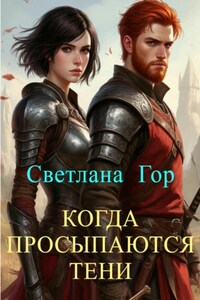Amate
Patriam
1
! Предисловие переводчика к книге
IV
Признаться честно, я был весьма удивлён, переведя первые басни сборника. Как? Ужели этот тонкий педант может быть таким горячим патриотом? Ужели ирония и патриотизм совместимы, вопрошал я себя, пытаясь вспомнить хотя бы одного горячего патриота среди легиона современных остряков-блогеров, эдаких властителей дум, зажигающих спичку острот о голенище глупости и пошлости, откровенно считающих народ быдлом и кормовой базой для собственного обогащения. Однако стоит только взглянуть вглубь истории – и мы видим сонм остряков-патриотов, начиная от Александра Сергеевича Грибоедова и Дениса Ивановича Фонвизина (оба – современники Буазара) и заканчивая Демьяном Бедным и Михаилом Михайловичем Зощенко; видимо, не всегда ненависть и презрение к родной стране были маркером интеллекта, что, право, не может не радовать.
С другой стороны, чему я удивляюсь? Мне ли неведомо, что стиль, в котором писал Буазар, – это не только палладианский классицизм, но и нет-нет да и проявляющиеся сентиментализм и романтизм, а уж что, как не романтизм, гармонирует с биением сердца молодого патриота! Не романтизм ли заставлял писателей обращаться к литературе родной земли, к её песням, преданиям и сказаниям, мифам и легендам? Не романтики ли Денис Давыдов и Джузеппе Гарибальди карабином и шашкой подтвердили, что их слова о любви к Родине и беззаветном служении Отечеству – куда больше, чем просто слова? К чему же удивление, что ещё не совсем романтик Жан-Жак Буазар начинает свою четвёртую книгу словами, которые можно было бы приписать если не Василию Макаровичу Шукшину (или Константину Георгиевичу Паустовскому), то Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину2, кабы не иной язык оригинала. А если перевести пролог на язык музыки, как бы не получилось нечто, изрядно смахивающее на шестую симфонию Бетховена, а то и вовсе на песню ансамбля «Любэ» «Ребята с нашего двора»! И добро бы патриотизм закончился прологом, но первая же басня, «Перепёлка и куропатка» (La Caille et la Perdrix, IV; I), продолжает тему любви к Родине уже в изложении группы «Воскресенье»3; так, красной линией, подобно ипостасям заботы о юношестве в третьей книге, патриотизм становится лейтмотивом четвёртой.
И тем интереснее наблюдать за развитием сюжета басен, что так или иначе у любой басни найдутся аналогии из нашей уже современной жизни. К примеру, «Мышь-полёвка» (Le Mulot, IV; VII): не напоминает ли её сюжет судьбу многих эмигрантов, привыкших прожигать жизнь и плевать на соплеменников, а после революции 1917 года вынужденных драпать сверкая пятками и спиваться в Париже? Или судьбу Евгения Чичваркина4, бывшего владельца сети магазинов «Евросеть», потерявшего берега, вынужденного ныне содержать небольшой ресторанчик и винный магазин в Лондоне, по последним данным убыточный; хотя в том же Лондоне можно было когда-то встретить Бориса Березовского5, фигуру калибром неизмеримо крупнее и Чичваркина, и Тинькова6, и Авена7 вместе взятых, под конец жизни также близкого к разорению да ещё и мучимого судебной тяжбой с неким Абрамовичем8.
Не менее симптоматична и басня «Зяблик» (Le Pinçon, IV; XXX): как тут не вспомнить поуехавших деятелей искусства, через одного бивших себя пяткой в грудь и восклицавших, что-де пропала без них Рассеюшка, потеряла-де светоч культуры, и теперь в стране только бездари и тёмное быдло (пожалуй, один Сергей Васильевич Рахманинов подобным образом не высказывался, за что ему (хотя и не только за это: в отличие от Бунина и Шмелёва, он не захлёбывался слюной от радости 22.06.1941, а изо всех сил стремился финансово помочь Красной армии) огромное уважение как гражданину). И что, погибла? На Бунина нашлись Рубцов и Заболоцкий, да и бичевание реальных проблем Маяковским выглядит куда честнее пасквильного бормотания «Окаянных дней». Я уж промолчу о том, что Марк Осипович Рейзен