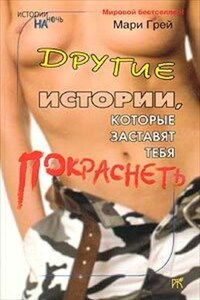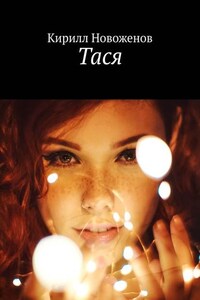Карьера Эмили Браун в качестве надзирательницы женской тюрьмы в пригороде Нью-Йорка началась в тот год, когда президентом стал старина Айк. Теперь Айк, отсидев в президентском кресле два срока, собирался уходить, а Эмили была уже старшей надзирательницей с неплохими перспективами подняться еще на две-три ступеньки по служебной лестнице. Было ей всего двадцать восемь лет, и все еще казалось возможным – даже высокие карьерные взлеты. Правда, что касается личной жизни, то здесь Эмили особых иллюзий не питала, хотя и была привлекательной женщиной. Вот только несчастливой. Корни ее несчастной судьбы уходили в те годы, когда она была еще девочкой и жила с родителями в городке Уиллоуби, штат Вермонт…
Она не любила вспоминать эту, теперь уже такую давнюю историю, но та время от времени напоминала о себе мучительными переживаниями, которые Эмили пыталась загнать глубже, глубже, чтобы они никогда не появлялись на поверхности. Она истязала себя физическими упражнениями и работой, но женщина в ней (или то, что было заложено в нее природой) давала о себе знать в последнее время все чаще, особенно когда она ложилась в свою холодную постель и долго не могла уснуть, размышляя, вспоминая, томясь…
Родители ее были фермерами, а родилась она в тот год, когда сухой закон еще правил бал и великая депрессия только ждала твердой руки, каковой вскоре стала рука ФДР.[1] Она была совсем девчонкой, когда началась война, а когда солдаты возвращались домой, она еще оставалась гадким утенком – неуклюжим подростком, в котором, впрочем, человек проницательный мог бы разглядеть будущую красавицу.
Но она стала задумываться об этом, лишь когда ей исполнилось шестнадцать – природа не торопила ее. Многие соседские девчонки, ее ровесницы, уже хвастались победами над героями войны (впрочем, для большинства из них эти победы вскоре оборачивались поражениями), а она все еще носила свою невинность, не торопясь расставаться с ней, и не рвалась в этот взрослый мир, полный страстей и трагедий, которые нередко потрясали даже их маленький городок, где, как могло показаться со стороны, ничто и никогда не происходит.
Но, видимо, Бог берег ее до поры только для того, чтобы потом она испила до дна ту чашу, из которой большинство ее ровесниц начало пить задолго до нее. Когда она впервые почувствовала в себе эти желания? Когда они властно заявили о себе? Смешно сказать – ей было почти семнадцать, когда вдруг эта неодолимая сила сделала из тихой застенчивой девочки страстную ненасытную женщину. Нет, она еще год-полтора, по крайней мере, с медицинской точки зрения, оставалась девушкой, но при этом жила эмоциями зрелой женщины.
Она познала все отчаяние одиночества, научившего древней забаве ее пальцы, которые, подчиняясь природе, приносили ей временное облегчение. Она не задумывалась, хорошо или плохо то, что она делает, не изводила себя самобичеванием за это своеволие рук. Кому-то это могло бы показаться странным: ведь родители ее были людьми религиозными, воспитывавшими ее в строгости: на все вопросы, которые касались взаимоотношений мужчины и женщины, в их доме было наложено строгое табу. От родителей она и переняла некоторый аскетизм, отличавший ее и в более поздние годы. Может быть, за это она потом и заплатила такую высокую цену. Неосознанное ханжество родителей сделало ее заложницей той непреодолимой силы, которая в один прекрасный день дала о себе знать. Поначалу она старалась не обращать внимания на этот страстный зов (и речи не могло быть о том, чтобы прийти к матери и спросить, что же такое происходит с ней, попросить ее мудрого совета – мать, скорее всего, даже если бы и захотела ей помочь, не смогла бы это сделать по причине собственного невежества), но он становился все сильнее и сильнее, доводя ее до исступления, почти до безумия. Вот тогда-то она как-то раз, когда в доме никого не было, заперлась в своей комнате и впервые сделала то, чего требовала ее изнемогающая от этой истомы женская природа.