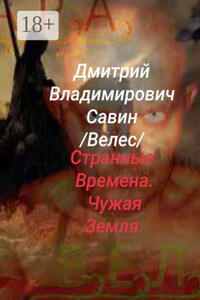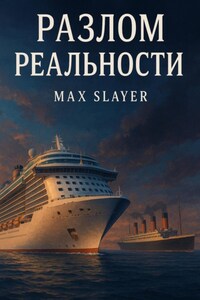Густой германский туман цеплялся за древние дубы словно дыхание спящих богов, окутывая лес призрачной пеленой, сквозь которую едва проникали первые лучи рассветного солнца. Центурион Гай Кассий Лонгин вел свою центурию все глубже во вражескую территорию, его обветренное лицо несло на себе карту трех северных кампаний – шрамы, рассказывавшие истории сожженных деревень и плачущих детей. Лес наблюдал со злобным терпением, каждая тень была потенциальной могилой, каждая шелестящая ветвь – шепотом угрозы.
Серые глаза Гая методично осматривали границу леса, пока его разум ворочал воспоминания, от которых он не мог избавиться. Тяжесть центурионского виноградного жезла ощущалась все более обременительной с каждым прошедшим сезоном, нагруженная не только властью, но и накопленной виной завоеваний. Воспоминания наползали на него подобно болотному миазму: девочка с косичками, что выбежала из горящего дома и замерла от ужаса при виде римских орлов; старик, умоливший пощадить внука и получивший удар копьем в грудь; женщина, которая бросилась в реку, предпочтя смерть рабству.
Его люди следовали в дисциплинированном молчании, их подбитые гвоздями сапоги приглушенно стучали по влажной земле, но Гай чувствовал их напряжение – то, как молодой Марк слишком крепко сжимал свой пилум, как ветераны держали руки у рукояток гладиев. Это был не просто патруль, а путешествие в самое сердце варварской тьмы, где римская цивилизация встречалась с неукротимой дикостью, которая отказывалась покориться.
Густые кроны деревьев переплетались над их головами, образуя живой свод, сквозь который лишь изредка пробивались золотистые столбы света. Воздух был влажным и тяжелым, насыщенным ароматами перегнивших листьев, мха и чего-то более зловещего – запахом крови, который всегда сопровождал римские легионы в их походах. Центурион ощущал, как пот стекает по спине под кожаным панцирем, как напрягаются мышцы ног при каждом шаге по неровной лесной почве.
– Центурион, – тихо обратился к нему ветеран Луций Максим, приблизившись слева. Его лицо, изрезанное шрамами старых битв, выражало беспокойство. – Лес слишком тих. Даже птицы не поют.
Гай кивнул, не отрывая взгляда от теней между деревьями. Максим был прав – зловещая тишина окутывала их, словно сам лес затаил дыхание в ожидании чего-то страшного. Только приглушенные звуки их собственного движения нарушали эту мертвенную тишину: скрип кожи, тихое позвякивание металла, осторожные шаги по усыпанной листьями земле.
– Германцы знают, что мы идем, – прошептал Гай, крепче сжимая рукоять гладия. – Они нас ждут.
Молодой Марк, едва достигший восемнадцати лет, шел в первых рядах, его лицо было бледным под шлемом, а глаза широко распахнуты от страха и волнения. Это был его первый поход в германские земли, и Гай видел в нем самого себя много лет назад – полного решимости служить Риму, верящего в величие империи, еще не знающего, какую цену придется заплатить за эту веру.
Внезапно лес взорвался хаосом. Германский боевой клич прорвался сквозь туман подобно грому с ясного неба, и тишина мгновенно сменилась какофонией смерти. Расписанные синей краской воины выскочили из-за массивных стволов деревьев, их копья зловеще поблескивали в тусклом свете, когда они ринулись на римскую колонну. Тактический разум Гая обработал засаду за считанные мгновения – они были в меньшинстве, пойманы в ловушку, без места для маневра.
Его гладий запел, выскользнув из ножен, когда он проревел приказы, прорезавшие шум битвы:
– Строй! Щиты к щитам! Берегитесь флангов!
Молодой Марк споткнулся, подавленный первым вкусом настоящего боя, и германское копье устремилось к его сердцу. Без сознательного размышления Гай метнулся вперед, его щит принял удар, предназначенный мальчишке, в то время как его клинок нашел горло воина. Почва леса стала скользкой от крови и грязи, когда римская дисциплина столкнулась с варварской яростью, древние деревья стали свидетелями очередной главы в бесконечном цикле завоевания и сопротивления.