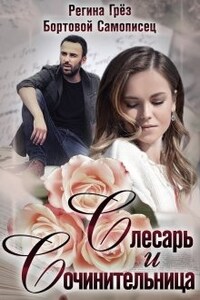Папа нередко называл меня звездным ветром. За веселый характер,
за синие глаза и любовь к блесткам. О, я просто обожала эти
маленькие, сверкающие частички. Они казались приветом из другого
мира. Благополучного, сытого, счастливого. Там, где дети носили
сверкающие платья, все было иначе, нежели у нас. Но несмотря на все
трудности, я любила это прозвище и особенно интонацию, с которой
его произносил отец. Ласково и тепло.
Уже больше года никто меня так не называл.
Воспоминания, как всегда, накатывают не вовремя. За рулем или
пока красишь ресницы. Или когда драишь унитаз в очередном, кажется,
десятом по счету, гостиничном номере.
Я трясу головой, чтобы избавиться от накатившей тоски и иду к
тележке за одноразовым шампунем и щетками. Номер блестит, но кому
есть до этого дело? Я даже не знаю, заедет ли кто-то сюда сегодня.
В голове лишь мысли о том, что вот-вот закончится смена, и я упаду
в постель без задних ног. О, блаженствует тот, у кого впереди
выходной!
- Аня… - слышу я из коридора и узнаю голос Анзурат - еще одной
горничной.
Она держится за живот и морщится, будто от боли. Хмурюсь.
- Тебе плохо?
- Да, что-то желудок болит.
Вздыхаю: Анзурат начисто игнорирует все мои попытки объяснить, к
чему ведет плохое питание. Я знаю, что она отправляет деньги
старенькой маме, но все равно злюсь, потому что теперь мне придется
убирать и ее номера.
- Мне остался только люкс, - говорит она. - Поможешь? Смену
пополам.
Снова вздыхаю, но знаю, что соглашусь. Не отправлять же ее
работать больную, да и лишняя копеечка не помешает. Хоть она и в
прямом смысле копеечка, ведь Анзурат платят еще меньше, чем
мне.
Налицо дискриминация - думаю я, поднимаясь на двадцать пятый
этаж, к люксам и студиям. В огромном штате горничных большинство -
приезжие. Такие, как Анзурат, берущиеся за любую работу, чтобы хоть
немного денег отправить семье. И такие, как я - девицы без
образования и жилья. Нам хоть и не надо отправлять никому деньги,
все равно живется не слишком кучеряво.
Из люкса недавно выехала вполне приличная семейная пара.
Кажется, они были туристами из Лондона. В любом случае, они
оставили номер в практически идеальном состоянии, и я резво берусь
за уборку. За окном уже давно стемнело, и на меня смотрит огромная
луна. В центре города, где нет заводов и смога, ее видно очень
хорошо. Задвигаю шторы: мне немного неуютно в ее свете.
Шумит пылесос, я напеваю под нос какую-то дурацкую песенку, а
потому не слышу за своей спиной тяжелые шаги. Ковролин глушит все
звуки, и, когда мне на плечо опускается рука, я вскрикиваю и
отпрыгиваю в сторону - мне адски страшно. Сердце бухает в груди,
как сумасшедшее.
- Простите, - говорит незнакомец.
Я выключаю пылесос и украдкой его рассматриваю. Он выше меня на
две головы, четко очерченные скулы, темные, почти черные глаза и
тонкие губы придают ему немного суровый вид. Наглухо застегнутое
драповое пальто идеально: на нем ни пылинки, ни капельки дождя.
- Извините, - почему-то я говорю это почти шепотом.
Он пугает меня. Пугает пристальным взглядом, пугает видом. Один
мир вдруг прикоснулся к другому, а такие касания никогда не несут
ничего хорошего.
- Это мой номер, - говорит он.
- О… прошу прощения. Я не успела его убрать, у вас ранний
заезд?
- Да, я приехал внезапно.
- Все будет готово через тридцать минут. Дальше по коридору вы
можете пройти в вип-гостиную, вам подадут кофе или другие напитки,
закуски и свежую прессу.
- Спасибо. - Он все так же не сводит с меня глаз.
Мы стоим и совершенно по-идиотски пялимся друг на друга. Он не
двигается с места, а моя рука замерла над кнопкой включения
пылесоса.
Это то, что я ненавижу: его взгляд буквально ощупывает меня с
ног до головы. Как ученый под микроскопом изучает клетку, богач
рассматривает прислугу, традиционно задерживая взгляд на голых
коленках. Я подавляю желание одернуть юбку и, как барон Мюнхгаузен,
вытаскиваю себя за косичку из болота: включаю пылесос и начинаю
обрабатывать диван.