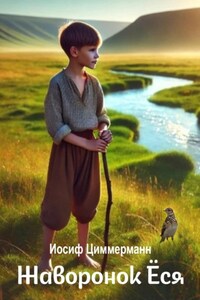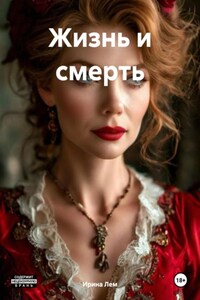Александр Чудаков
Спрашиваю Шкловского[1]
Вопросу я обязан и знакомством со Шкловским. На его встрече со студентами МГУ 17 апреля 1962 г. я написал записку – видимо, спрашивал об ОПОЯЗе, потому что В.Б. ответил:
– Жирмунский в ОПОЯЗе был. Виноградов – нет. Я был председателем – не заметил. Но ранние его работы связаны с Эйхенбаумом.
Когда вечер кончился и все столпились вокруг Шкловского, стал уточнять про Жирмунского.
– Это вы спрашивали? – посмотрел внимательно. (Тогда, в доструктуралистскую эпоху, ОПОЯЗом интересовались только американские стажеры.) – Приходите. Когда хотите. Завтра. Через неделю.
Я хотел увидеть Шкловского с тех самых пор, как студентом второго курса купил сборник “Поэтика” 1919 г. с его статьями “Потебня” и “Искусство как прием”. Сама возможность этого не казалась особенно фантастичной: раз в неделю я слушал лекции Н.К. Гудзия, В.В. Виноградова, Ф. Асмуса, дважды в неделю – С.М. Бонди, который много рассказывал о Б.В. Томашевском, Б.М. Эйхенбауме, благополучно здравствовавших; на факультете видел И. Бернштейна, М.Н. Петерсона, А.А. Реформатского. Еще сильнее мне захотелось этого позже, когда я, уже в аспирантуре, писал работу о формальных штудиях в Германии и России.
Впервые я увидел Шкловского на вечере Хлебникова 8 февраля 1961 г. Но это было короткое выступление. Запомнилось только про Джамбула – из-за неожиданности (Шкловский рассказывал, что акын, понимая русский язык, это скрывал).
Теперь он говорил целый вечер. До этого приходилось слышать, что Шкловский “уже не тот”. Не знаю, что было раньше, – видимо, что-то непредставимое. Сейчас же перед нами был невероятный оратор – с могучим голосом, сверкающей речью, державший аудиторию два часа, как две минуты.
– Я начал свою литературную деятельность – страшно сказать – в 1908 году.
Расскажу о Петербургском университете. Широкая река, по ней плавают ялики с прозрачными носами, как при Петре. Здание Двенадцати коллегий. Длинные коридоры, и, когда студент идет в конце, он кажется вот такой.
Ходит молодой Мандельштам, очень молодой Бонди (смех, аплодисменты). Мы были уверены, что он через год выпустит замечательную книгу (хохот). Бодуэн де Куртенэ, Якубинский, Поливанов, который знал необыкновенное количество языков и тайно писал стихи, как и Якубинский.
Изменение искусства в том, что им становится то, что не было искусством. Оно приходит неузнанным. Так стало искусством немое кино.
Покойный Горький был высокий человек, большой силы. Сильный живот – в молодости долго месил тесто. Я видел его в драке. Он дрался не по классическим правилам – нагнувшись, но так и среза́л человека.
Пришла ко мне молодая женщина: “самгинщина”, “этапы”. Не утратьте дитячьего отношения к искусству. Не потеряйте к нему прямого отношения. Но знайте, как оно сделано.
Какие еще советы? Мой совет – удивляться. Начинайте с фокстерьерства.
Тогда мы с М. Ч. через несколько дней приехали к Шкловскому на дачу в Шереметьево (она еще при жизни В.Б. кратко описала этот визит[2]). Первое сильное впечатление: не произнеся ни одной этикетной фразы, он сразу начал говорить о существенном (о Поливанове). И так было всегда. Еще снимаешь пальто, а уже слышишь:
– Ну вот. Думаю о Кутузове.
– Так вот. Эйзенштейн говорил…
Изредка, впрочем, он как бы что-то вспоминал и задавал светские вопросы.