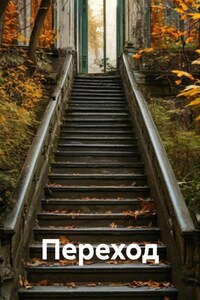Пока поднимался, в голове не мелькнуло ни единой мысли; разум заливал клокочущий страх. Вот пятый этаж. Шестой. Здесь, кажется, кто-то живет. Здоровался ли я с соседом, знал ли его в лицо? Или выдумал только что… Не помнил, не хотел вспоминать. Восьмой этаж: мусор и плесень. На десятом выбиты стекла; холода нет, окна забиты сгнившими досками, и здесь чуть темнее, чем на других этажах. Одиннадцатый, и тринадцатый…
…Почему же так страшно?
Споткнулся; мышцы забиты усталостью, болью. Присел на ступеньке, стянул перчатки, и тут же сердце стукнулось в ребра и замерло: без обычного блеска кольца, покрытые кровью и грязью, руки казались совершенно чужими. Распахнул пуговицы пальто. Пальцы ткнулись в предмет в его складках: жесткий диск. На матовом серебристом металле зияла жирная трещина. Я застонал. Посмотрел вниз под ноги, в темные пролеты, взглянул на окно. Грязь прошедшего ноября застыла пятнами на стекле, отразила бледное небо снаружи. Мякоть на пальце с болью впилась в хрупкий корпус: из-под обломанного ногтя лениво проступила кровь. Встал, сунул плоский прямоугольник обратно, занес над ступенью ногу для шага. Миновал четырнадцатый этаж, и вдруг стал подниматься бегом, тяжело хватая ртом застоявшийся воздух. Восемь пролетов; в висках били молоты.
– София?
Все залито серым светом. Вытянутый прямоугольник окна, и в правой его части бледно-зеленое пятно пледа. Кресло, а в кресле фигура. И тишина.
Запер дверь на засов. Взглядом окинул квартирку: пропали осколки стекла и контейнера; снова посмотрел на фигуру.
– Софи… Это я…
Здесь ли она? Стоит за углом, притаилась ли в ванной комнате? – дверь нараспашку, там влажная темень. Прошел вглубь коридора. Пустота в ванной. Угол: белесый кирпич.
Нахмурился. И вздрогнул от голоса, звенящего счастьем:
– Здравствуй!
Я не узнал ее. Это была София, ее копия, но это была не она. Будто София из другой жизни, совершенно забытая мной ипостась; кто-то листал каталог и от скуки, для смеха, ткнул пальцем в страницу.
Приблизился. Вытянул руку, чувствуя на кончиках пальцев тяжесть ее подбородка.
– Что с тобой сделали?..
Она улыбнулась, довольная, проурчала:
– Мы играли. Нравится?
Не ответил, провел по щеке большим пальцем от уголка губ к высокой скуле линию, вдруг отпрянул. Антрацитовых волос до лопаток больше не было. Вместо плавно струящихся локонов как-то по-мальчишески коротко, наискось, полностью остриженная там, где багровела от раны кожа, волновалась черная грива, закрывая собой шею сзади до правого плеча. Ассиметричная вуаль покрывала прелестную головку, открывая левое ухо, и в мочке его чернела серьга. Сощурился: это была моя серьга, украшение, подаренное Софией давным-давно, черненое серебро с античным узором-меандром. Прокол был выполнен грубо; на мертвой коже застыло подобие сукровицы по рваным краям ранки.
Не надевал серьгу с тех пор, как устроился на гребаный склад. Такие штуки там не понимали и не любили. Кажется, что и отверстие в мочке моего левого уха давно уже заросло.
– Какого черта?..
Губы накрашены черным. Веки отливали пепельным контуром. Стройное тело укутано в рубашку с короткими рукавами, красно-черную, застегнутую на все пуговицы, туго обтягивающую литые бедра и грудь; на точеных ногах пестрели белые в крупную сетку гетры до согнутых сейчас колен. Ногти на пальцах рук и ног вызывающе чернели от лака. Кто-то придал «Сиберфамму» образ бунтующего подростка. Я ухватился за кончик гетры, потянул прочь, оголяя икру, щиколотку и ступню; без всякой цели; может, желая убедиться в реальности предмета гардероба, а может, подчиняясь какому-то глубинному, необъяснимому сейчас порыву. Завертел головой, ожидая, что вот-вот появится тот, кто объяснит, наконец, для чего было нужно совершать этот акт вандализма.