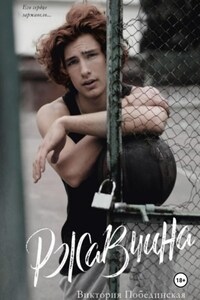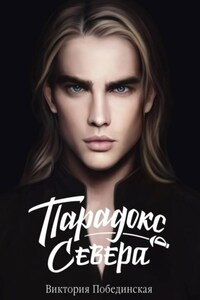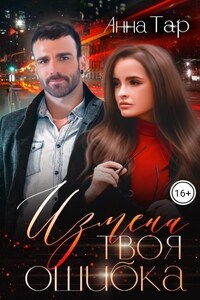– Непроизвольная память стерта.
Я щурюсь от холодного света ламп над головой.
– Эмоциональная привязанность удалена, – продолжает механический голос.
Мышцы сводит, будто тело пробыло в одном положении слишком долго. Я пытаюсь сесть, но ничего не выходит.
– Долговременная память уничтожена.
Сквозь шум крови в ушах я все еще слышу холодный голос, который произносит эти слова снова и снова.
– Ник, Арт, вы здесь? – пытаюсь произнести я, но язык не подчиняется.
– Операция завершена.
И тут я понимаю, что снова нахожусь в лаборатории. Это, должно быть, ошибка. Они не должны были нас поймать! Я изо всех сил пытаюсь, но не могу сбежать. Вырываюсь, бьюсь в крепко удерживающем на месте кресле, кричу – только из горла не вырывается ни звука, так что остается только жалобно скулить, принимая неизбежное.
– Загрузка прошла успешно!
Я падаю в глубину собственного подсознания, напоминающего о том, что меня больше нет. Уничтожили вместе с памятью. Все, что я могу, – лишь безмолвно выть, пока наконец не просыпаюсь от того, что подушка пропиталась слезами. Горло пересохло так, что, кажется, не вдохнуть. Я закрываю лицо руками. Кислорода не хватает, поэтому пытаюсь глотнуть хоть немного воздуха ртом – как вдруг чувствую, что запястья снова скованы. Только это прикосновение не холодного металла, а теплых рук.
– Тише. Спи, я здесь, – шепчет до боли знакомый голос, и, уткнувшись носом в плечо Ника, я разрешаю себе разрыдаться, а он разрешает мне побыть слабой и беспомощной. Гладит по голове, зарываясь в волосы пальцами, водит по моей щеке кончиком носа, едва задевая губами висок, и, успокаивая, повторяет: – Я буду рядом.
Я качаю головой:
– Я знаю, что ты уйдешь.
Хочется сказать, как я сожалею обо всем; что, вернись мы назад, не повторю своих ошибок. Стану для него поддержкой, тем человеком, на которого он сможет положиться, – но вместо этого жалобно прошу:
– Не уходи.
Хочется кричать, умолять его не оставлять меня, но Ник никогда не послушается. Крепче прижимаясь к его груди, я закрываю глаза, чтобы еще капельку погреться чужим теплом. Ведь за окном зима, и тепла катастрофически не хватает.
– Я буду здесь, я ведь обещал.
Не уверена, злюсь ли на него, ненавижу, скучаю или люблю, – но у его обещаний привкус горечи, ведь что-то внутри меня точно знает: это неправда. И, все так же не открывая глаза, шепчу:
– Ложь. Ты всегда уходишь.
– Из нас двоих только ты лжешь себе, Веснушка. Ведь это твои сны.
Я крепче сжимаю кулаки, надеясь почувствовать между пальцами ткань рубашки, но открываю глаза и понимаю, что вцепилась в пододеяльник. Протягиваю руку, но на кровати пусто. Ничего, кроме ледяной ткани простыни. А значит, не было ни теплых рук, ни длинных пальцев, перебирающих волосы, ни тихого успокаивающего голоса. И я снова закрываю глаза…
Следующие несколько дней я не могу заставить себя подняться. Словно то самое солнце, про которое так часто писал Ник, внутри меня погасло. Не стало того, кому нужен этот свет. И самого света не стало. Я не хочу есть, пить, двигаться. Просто лежу в кровати, потертое изголовье которой стало уже почти родным, гляжу в растрескавшуюся стенку, изредка проваливаюсь в сон. Чувство вины вкупе с потерей единственного человека, который меня по-настоящему знал, ощущаются так опустошающе гулко, что, кажется, никогда не станет легче. Но больнее всего бьет пришедшая в одну из бессонных ночей мысль, столь же внезапная, сколь повергающая в шок: «Я могла бы в него влюбиться. Просто не захотела».
Я прикрываю глаза, восстанавливая по крупицам его образ в голове. Острый взгляд, черные пряди, улыбку со вздёрнутым уголком губ, обнажающую левый клык, острый, словно у волчонка, и эта улыбка так отвратительно подходит под его характер, что становится смешно. До истерики. Расхохотаться бы во всю мощь легких, так, чтобы не вдохнуть, но вместо этого из горла вырывается только сухой кашель. Я пытаюсь встать, но в глазах темнеет от слабости, а хрипы отдают в горле удушьем. Если я продолжу захлебываться в одиночестве, запершись в комнате, у меня точно съедет крыша.