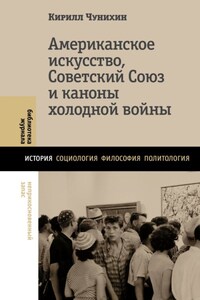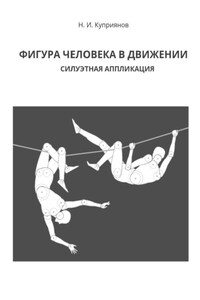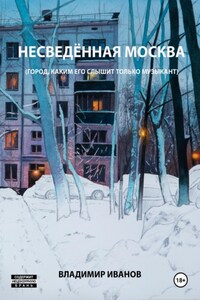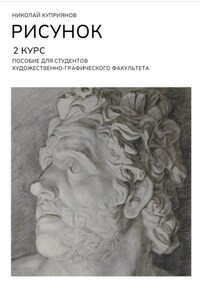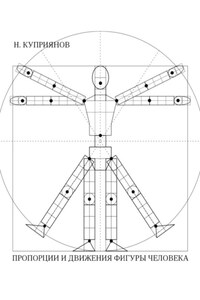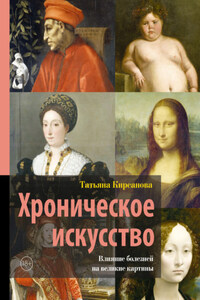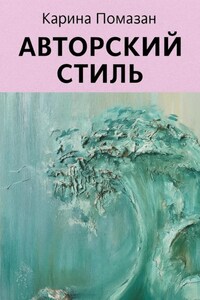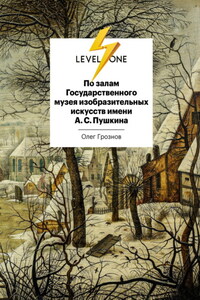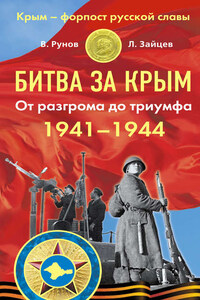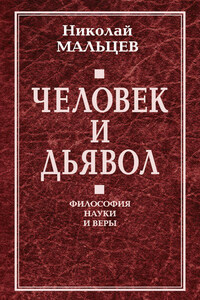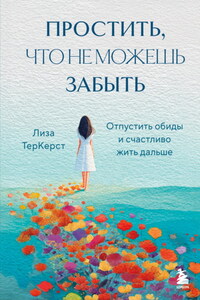* * *
© К. Чунихин, 2025
© Т. Пирусская, перевод с английского, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
АИГИ – Американский институт графических искусств
АНВ – Американская национальная выставка
ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ОР ГМИИ – Отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
РГАКФД – Российский государственный архив кино– и фотодокументов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
ССОД – Союз советских обществ дружбы
ЮСИА – Информационное агентство США (англ.: USIA – United States Information Agency)
AAA – Archives of American Art
NARA – National Archives and Records Administration
SIA – Smithsonian Institution Archives
В 2012 году, когда я приступал к этому исследованию, холодная война казалась далеким историческим прошлым. Искусство и культуру этого периода, завершившегося, как считалось, вместе с распадом Советского Союза, чаще всего осмысляли с постпозиции и исходя из новых реалий. В 1990-х годах российские архивы открыли двери для ученых, стремившихся пересмотреть нарративы советской эпохи. В западной историографии появились исследования культурной политики США, основанные на прежде засекреченных американских документах. Из научных работ стали постепенно уходить обусловленные холодной войной искажения, и наметилась возможность становления более объективной, эмпирически фундированной истории культуры и искусства. При этом в науке закрепилась тенденция рассматривать искусство и политику в одной связке, а задача исследователя прежде всего сводилась к поиску связей между ними. Такие исторические нарративы выглядели особенно привлекательно, когда принимали характер расследования, призванного разоблачить тайные планы по использованию модернистского искусства, особенно абстрактной живописи, как средства пропаганды, которое должно было подрывать авторитет Советского государства. Подобный подход к искусству и культуре сохраняется по сей день, задавая дальнейшую стереотипизацию представлений об истории бытования американского искусства в Советском Союзе.
В 2010-х годах, на первых этапах работы над этим проектом, я с увлечением собирал все больше и больше материала, казалось бы доказывавшего обоснованность метанарративов периода холодной войны, где на первый план выходило использование государством изобразительного искусства и культуры в политических и идеологических целях. Однако в какой-то момент у меня начали скапливаться данные, опровергавшие некоторые наиболее популярные представления о роли искусства в условиях противостояния двух сверхдержав. Казавшиеся мне прежде базовыми тезисы о том, что правительство СССР панически боялось приобщения советских граждан к американскому абстрактному искусству и что США, осознавая это, стремились целенаправленно подорвать советскую власть, потребовали переформулировки. Взволновавшие меня вопросы вели меня не только в архивы, библиотеки и музеи, расположенные по обеим сторонам Атлантического океана, но и к живым людям. Интервью с посетителями и кураторами экспозиций стали дополнительными источниками ценнейшего эмпирического материала. Но намного более важным оказалось то, что в этих беседах я начал отчетливо видеть, как сопряженные с холодной войной предубеждения влияют на исторические нарративы. Я с изумлением наблюдал, как охотно современники и «участники» холодной войны воспроизводят расхожие, но упрощенные представления о свободе американского абстрактного искусства в противовес тоталитарному советскому соцреализму. При этом их собственные рассказы порой рисовали куда более сложную панораму искусства периода холодной войны, не сводившуюся к противопоставлению свободного и несвободного творчества.