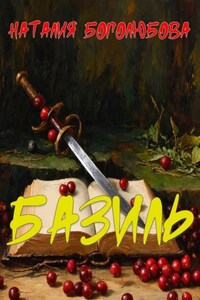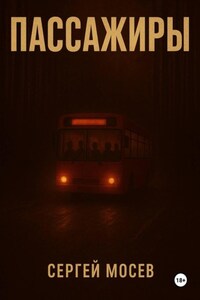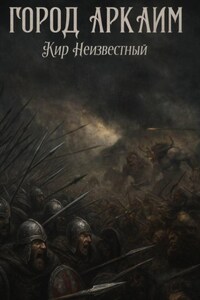Сумрачная Вежа не была деревней в привычном смысле этого слова – с яркими заборами, лавками с пряниками и звонким смехом детей, разлетающимся по морозному воздуху.
Нет, она была узлом – тугим, вязким, как затянутая нить, где переплелись грязь, туман и забвение.
Словно кто – то когда – то сложил её в ладонь, прижал, утопил в холодных болотах, и теперь она жила, как живут шрамы – тихо, болезненно и не до конца мёртво.
Здесь даже ветер дышал с усилием – глухо, сипло, с привкусом плесени.
Ветви деревьев скрипели, словно старые кости. Земля под ногами отзывалась глухим, хлюпающим стоном. Всё казалось уставшим – дома, мостовая, редкие фонари, чьи дрожащие язычки света едва пробивались сквозь серый туман.
Дома стояли вплотную, как старики, прислонившиеся друг к другу в страхе упасть. Крыши их провисли, чердаки глядели вниз мутными глазами окон. Штукатурка облупилась, брёвна поседели, стены пахли сыростью и временем. В окнах почти никогда не горел свет. Казалось, внутри домов давно никто не живёт – лишь воздух скрипит по углам, да где – то в дверных проёмах бродят тени.
А за последними домами начинались болота – бескрайние, как вязкая тоска.
Они были похожи на зеркала, в которых отражается не небо, а сама тьма.
Серые, холодные, зловещие, они дышали размеренно, как спящий зверь. Иногда над ними поднимался лёгкий пар – и казалось, что это не туман, а дыхание чего – то живого, древнего, что смотрит в ответ, если задержать взгляд слишком долго.
Лишь одна дорога соединяла Сумрачную Вежу с внешним миром – узкая, будто прожилка на коже, тянулась она через реку Серебрянку. Каменный мост был стар, изъеден временем, скользкий, как язык лягушки. Пойдёшь по нему, кажется, будто под ногами шевелится сама река, пытаясь схватить и утянуть вниз.
Сумрачная Вежа не принимала чужих.
Она была как старуха, которая не любит, когда её тревожат, но помнит всех, кто когда – то осмелился войти.
Дом Платовских стоял на краю деревни – ближе всех к болотам, дальше всех от жизни. Дом был старый, обросший плющом и лишайником, с покосившейся башенкой и глухими ставнями, которые не открывались с весны. Каменные стены покрылись зелёными пятнами, словно природа пыталась вернуть его себе.
Когда ветер дул со стороны болот, дом вздрагивал. Казалось, он слушает.
На чердаке жили вороны. Днём они молчали, сидели недвижно, будто вырезанные из чёрного дерева. А ночью начинали спорить – их карканье перемежалось с потрескиванием старых балок, с протяжным воем ветра, с тихим бульканьем за окном. В темноте всё это сливалось в единый ритм – будто дом дышал в такт болотам.
Здесь жил Базиль Платовский – тринадцатилетний мальчик, вытянутый, угловатый, хрупкий. Его глаза – большие, серые, – будто искали что – то в пустоте. В этом взгляде жила задумчивость, настороженность и страх – не острый, не громкий, а тот, что сидит глубоко внутри, как дыхание, которое невозможно задержать.
Волосы – густые, тёмные, с матовым блеском, – всё время спадали на лоб. Мальчик отбрасывал их коротким, нервным движением, как будто отмахивался не от прядей, а от мыслей.
Лицо – бледное, почти прозрачное. Черты тонкие, чёткие, словно нарисованные пером, не кистью. Губы – узкие, сухие, и когда Базиль улыбался – редко, неловко, – казалось, что улыбка не принадлежит ему, она будто пришла откуда – то со стороны, из другого, более тёплого мира, где мальчик никогда не был.
В деревне его сторонились. После того как его мать и сестра исчезли на болотах, никто уже не сомневался – дом Платовских проклят. Его обходили стороной даже днём.
Стоило Базилю появиться на улице – разговоры стихали, будто кто – то невидимый провёл ладонью по воздуху, приглушив все звуки. Мужчины отводили глаза в сторону, дети разбегались, притворяясь, что не видят его. Старухи крестились торопливо, почти испуганно, будто сам факт взгляда на мальчика мог навлечь беду. Соседи сплетничали за спиной мальчика – тихо, сдавленно, но с тем особым наслаждением, с каким люди произносят ужасные вещи и радуются в душе, что страшное случилось не с ними.