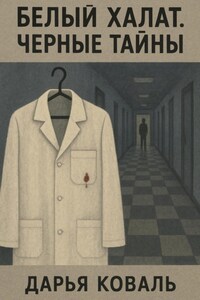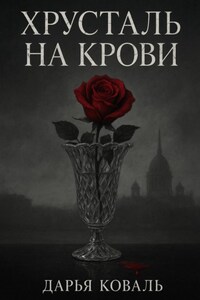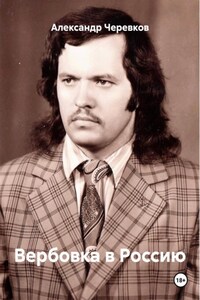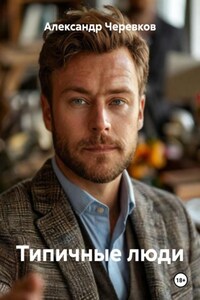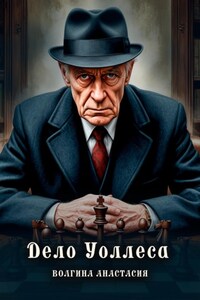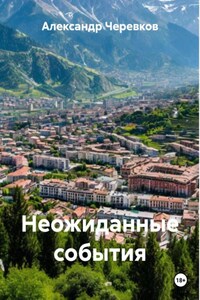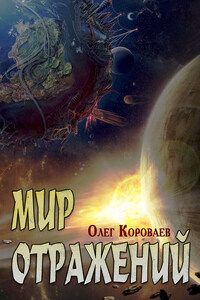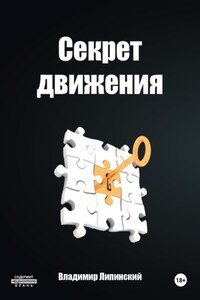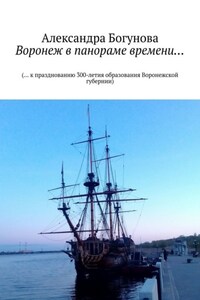Утро после субботы
Понедельник никогда не был любимым днем Анны Кузьминичны. Он всегда приходил слишком резко, слишком серо, выдергивая из сонной неги воскресенья, из тепла маленькой квартиры на окраине, где пахло пирогами и старыми книгами. Но этот понедельник, последний в хмуром, плачущем октябре, был особенно тяжел. Ночь почти не спала, ворочалась, слушала, как за окном ветер срывает с тополей последние, отчаявшиеся листья и швыряет их в стекло. Ветер выл по-зимнему, тоскливо, будто жаловался на свою бездомную долю. Анна встала задолго до того, как зазвонил старенький будильник «Слава», его дребезжащий бой давно стал частью ее утреннего ритуала. Она двигалась по квартире бесшумно, привычно, не зажигая верхнего света, чтобы не спугнуть остатки дремы. На кухне, в синеватом свете уличного фонаря, она заварила в кружке с отбитой ручкой густой, горький чай, какой пила всю жизнь. Сахар давно не клала – ни к чему это баловство. Откусила кусочек черствого хлеба. Еда не лезла в горло, внутри сидел холодный, неприятный комок, и дело было не только в погоде. Какая-то необъяснимая тревога, смутное предчувствие висело в воздухе еще с субботы.
Дорога до института занимала сорок минут на дребезжащем троллейбусе и еще десять пешком. Анна Кузьминична любила эту пешую часть пути. Она шла мимо типовых пятиэтажек, мимо сонного гастронома, где еще только выставляли на прилавок молочные бутылки с крышечками из фольги, мимо детского сада, откуда уже доносились первые капризные голоса. Эта утренняя Москва была ее Москвой – тихой, будничной, еще не оглушенной ревом машин и гомоном толпы. Но сегодня все казалось иным. Небо висело низко, тяжелое, свинцовое, готовое в любой момент пролиться холодным дождем. Даже знакомые дома выглядели чужими, неуютными.
Здание Научно-исследовательского института прикладной биохимии встречало ее привычной монументальной строгостью. Массивный четырехэтажный корпус из серого кирпича, с высокими окнами, за которыми, как знала Анна, скрывались лаборатории, кабинеты, хранилища – целый мир, живущий по своим, особым законам. Мир белых халатов, колб, реторт и тихих, напряженных разговоров. Двадцать лет она входила в эти двери. Двадцать лет ее ведро и швабра наводили здесь порядок, смывали следы чужих жизней, чужих успехов и неудач. Она знала этот институт лучше многих, кто носил здесь звания кандидатов и докторов наук. Она знала его запахи: острый, стерильный запах хлорки в коридорах, сладковатый аромат реактивов из лаборатории органического синтеза, запах пыльных бумаг из архива и крепкого табака «Золотое Руно» из кабинета директора Мещерякова. Она знала его звуки: гудение центрифуг, щелканье счетчиков, скрип паркета под торопливыми шагами и гулкое эхо в пустых холлах по вечерам. Она была частью этого места, его незаметной, но необходимой деталью, как винтик в сложном механизме.
На проходной ее встретил Павел Андреевич, ночной сторож, сухонький старичок с седыми усами и вечно недовольным выражением лица. Но Анну он любил, по-своему, по-стариковски.
– Не спится, Кузьминична? – прошамкал он, не отрываясь от кроссворда в «Вечерней Москве». – Птичка ранняя.
– И тебе не хворать, Андреич, – мягко ответила Анна, расписываясь в журнале прихода. – Как ночь прошла? Спокойно?
Павел Андреевич хмыкнул, поднял на нее выцветшие глаза. В них плескалась не то усталость, не то что-то еще.
– Спокойно, как же. Беготня тут была в субботу. Допоздна. Мещеряков приезжал. И Соколова эта, мегера твоя из четвертой. Нервные все, как на иголках. Будто не институт, а улей растревоженный.
– В субботу? – удивилась Анна. – Чего им в выходной не сидится?
– Наука, Кузьминична, она выходных не знает, – философски изрек сторож и снова уткнулся в газету. – Особенно когда премия на носу. Или беда какая.