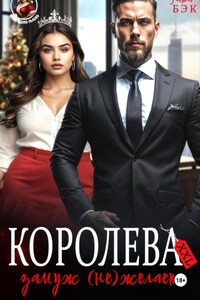– Люси, если ты не уедешь, мы с тобой себя уморим.
Лионель выдал мне это за поздним воскресным завтраком, где-то между бутербродами и ломтиками ветчины. Муж смотрел на меня горестно и печально, и я поняла, что он прав. Хотя я и так уже, кажется, отчасти умерла. Почти полтора года назад. И теперь меня хватило только на то, чтобы спросить, вертя в руках вилку и не поднимая глаз от яичницы-болтушки:
– А мы?..
– Это давно уже не «мы»…
Он встал из-за стола, скрежетнув ножками стула, и с пустыми руками ушел в кухню. И во мне была пустота. В ставшем бесполезным животе. С тех пор, как произошла трагедия, я чувствовала себя совершенно пустой. Поэтому собрала чемодан и назавтра же покинула нашу парижскую квартиру. И пока я шла к подруге, последние слова, которыми мы обменялись, слабым эхом отдавались у меня в голове:
– Я люблю тебя…
– И я тебя люблю.
Тогда я впервые поняла, как, а главное – почему двум любящим людям приходится расставаться, чтобы жить дальше, чтобы не возненавидеть друг друга, чтобы не пропасть.
Чтобы перестать взваливать на другого тяжесть вины.
Когда я неделей позже подхожу к двери маминой квартиры, в голове у меня разыгрывается совсем другая драма: надо ли мне в таком состоянии туда идти? Я очень люблю ее, но… мама есть мама. Анник семьдесят четыре, она овдовела десять лет назад и после папиной смерти успела отвыкнуть жить с кем-нибудь вместе. А главное – у нее настоящий талант, не подавая виду, меня воспитывать.
Едва позвонив в дверь ее дома во втором округе Парижа, я начинаю жалеть о том, что пришла.
Все, что мне сейчас требуется – это выпить! Побольше и поскорее. И покурить. Хотя вообще-то я не курю. Но по-моему, «почти разрыв» с мужем может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Я едва успеваю сделать шаг в сторону лифта, а мама уже открывает – похоже, слух у нее все еще отменный. Лицо мамы встревоженное, а смотрит она так, как будто это из-за меня гибнут бельки.
– Девочка моя дорогая, до чего же я рада тебя видеть. Как ты?
– Примерно так, как если бы по мне прошелся диплодок с тремя тираннозаврами на спине, но в остальном все прекрасно. И я рада тебя видеть, мама.
Что бы вы там ни думали, это правда – несмотря на то, что я пыталась сбежать, пока не поздно. Мама – мое прибежище, мой маяк в бурю, моя скала. Разберется с любой кризисной ситуацией. Ее единственный недостаток? Ей не нравится, когда я выпиваю! Мама меня обнимает, и я мгновенно расслабляюсь.
– Входи, чаю хочешь?
Ну, что я вам говорила? Мой мир рушится, а она мне чайку попить предлагает. Ее собачка Шиши, узнав меня, прыгает вокруг, виляя хвостом, и пытается облизать мне руки. Я ее глажу – так мы здороваемся. Потом я разуваюсь, чтобы доставить маме удовольствие и не запачкать ее прекрасный белый ковер, вешаю куртку в прихожей и только потом спрашиваю:
– А покрепче у тебя ничего не найдется?
– Кофе, что ли?
– Нет, я, скорее, имела в виду водку или спирт для протирки, чтобы глотнуть и забыться.
– У меня есть портвейн. Иди в гостиную, устраивайся, сейчас принесу.
Ура. Думаю, мое бледное лицо с черными кругами вокруг глаз – ну, вылитая панда – явственно показывает, в каком я состоянии. Отношу сумку в гостевую комнату и, с тоской поглядев на папины фотографии и на снимки с нашей свадьбы, иду к маме в гостиную. Там стоит оранжевый диван, купленный на благотворительной барахолке, – я всегда говорила, что на нем живут призраки, но, как ни странно, никто никогда мне не верил, – белый диван и кресло. Мама открывает бутылку и наливает темно-красное вино в маленькие хрустальные рюмки, которые особенно любит, потому что они достались ей от родителей. Заметив, что я уставилась на старый оранжевый диван, она поджимает губы.