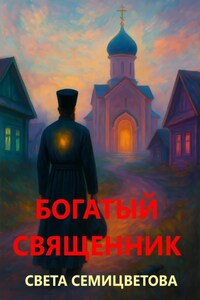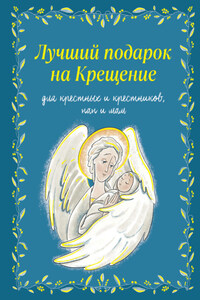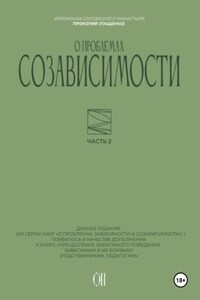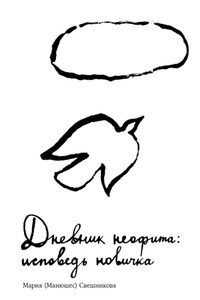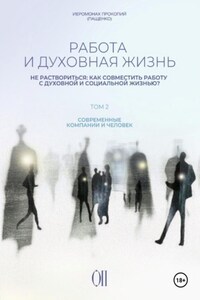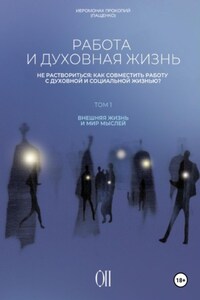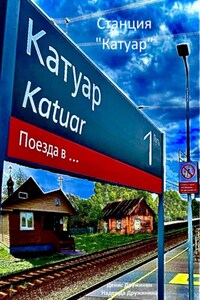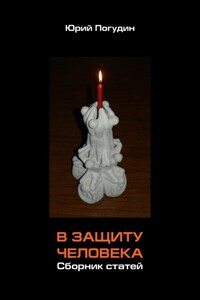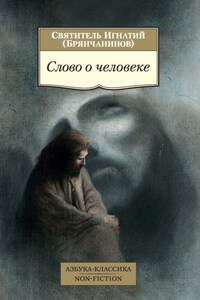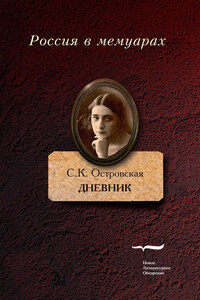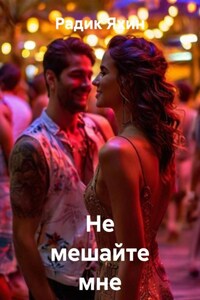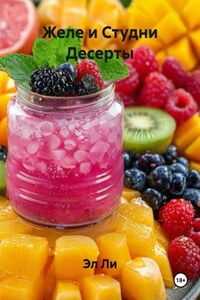Старый сломанный плетень на краю спуска к реке был местом встреч для жителей округи. К его существованию давно привыкли, и никто не задавался вопросом, зачем он вообще нужен. Солнце заходило за горизонт. Дул легкий прохладный ветер, и первые пожелтевшие листья полетели в последний путь.
Слегка покачиваясь, у плетня стоял местный священник – отец Павел. Запахнув плащ, накинутый поверх подрясника, он нащупал за пазухой припрятанную бутылку вина. Вглядываясь вдаль, достал и сделал несколько глотков. Стало немного легче. Борьба с желанием выпить оказалась проиграна. Священник тяжело вздохнул, спрятал бутылку и зашагал к деревне, прихватив с собой на полах пыльного подрясника репейник.
Чуть в стороне от крайней деревенской улицы примостился дом Петровны. Старушка жила одна, много болела и давно не держала живность. Огород зарос бурьяном, на покосившимся заборе висела скрученная проволока, служившая замком. Отец Павел вошёл во двор, постучал и открыл дверь.
– Мир дому! – перекрестившись, глядя на иконы сказал он.
– Батюшка! Дорогой! Это ты? – отозвалась лежащая на кровати женщина.
– Я, не пугайся, – ответил отец Павел.
В доме было грязно, но сил и времени на уборку не осталось. Разогрел еду, покормил больную, дал лекарство. После налил кошкам молока, вымыл посуду, и благословив старушку ушел.
Следующий дом принадлежал Федуну. Все свои 50 лет он прожил в деревне с матерью, за исключением года службы в армии. Нигде, кроме средней школы, не учился. Никогда не работал. Федун знал всё на свете, везде совал нос, и стоило ему появиться, как он заполнял собой окружающее пространство. Проходя мимо дома Федуна, отец Павел замедлил шаг и прислушался. Тихо.
«Хорошо, если спит. Или дома нет?», – беспокойные мысли пронеслись в голове. Мать жаловалась на сына: стал чаще выпивать, буянит, посуду бьет.
В деревне жили одинокие старушки, забытые родными, две многодетные семьи, переселившиеся из города в надежде заняться сельским хозяйством и растить детей на свежем воздухе и натуральных продуктах. Были семьи, которые прожили вместе до старости, вырастили детей и теперь встречали внуков, приезжающих на каникулы.
С каждым годом становилось всё больше дачников. Стало модным покупать дома в деревне. Привлекали красоты природы: лес, река. Деревня выглядела настолько живописной, что даже не искушенный в архитектуре человек ощущал присутствие исторического колорита. Не менее ценными были парное молоко, творог, яйца, овощи с огорода без нитратов, а еще щавель и лечебные травы, грибы, ягоды. Всё, что местные жители производили в своих подсобных хозяйствах или собирали в лесах и полях, шло на продажу дачникам. Это было взаимовыгодно: приносило весомый доход одним, обеспечивало запасы на зиму другим.
Летний сезон заканчивался. Дачники возвращались в город, запирая дома на зиму. С ними уходила и возможность заработка.
– Вечер добрый, батюшка! – на ходу поздоровалась женщина средних лет. В руках она держала вязанку дров.
– Добрый, хозяюшка! Бог в помощь! – ответил отец Павел.
Прошло два месяца с тех пор, как он приехал в деревню. За это время успел познакомиться со всеми жителями. Благо, на контакт они шли охотно, ведь на то есть основание – его здесь ждали.
Покойный настоятель был из старых священников-целибатов. Приняв сан, он получил назначение в эту глухомань, где когда-то стоял скит, домики монахов, колокольня и древняя церковь. Проникнувшись местным бытом и полюбив здешние места всем сердцем, батюшка воспрянул духом: возобновил службы, возродил церковь. Деревенские называли его «отец родной». Кандидат исторических наук, доктор церковной истории, талантливый зодчий, знающий эклектику, и мастер на все руки, умеющий сложить печь и рубить дрова, вырезать деревянные наличники и ковать жестяные флюгера. Его трудами было сохранено множество исторических памятников этих мест.