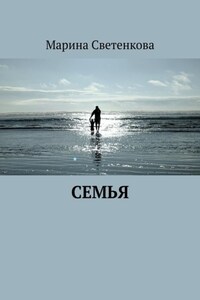За окнами стояло глухое белое марево, в котором утоп привычный вид на городское кладбище. Я открыл окно и высунулся по пояс наружу. Вблизи туман выглядел совсем иначе: не чистый лист, а клоки смерти, вмешавшиеся во время и пространство. Я сделал вдох, и эти клоки устремились в лёгкие, заполняя их запахом болота.
Из-за приступки за окном показалась птичья голова. Голубь тянул шею и подслеповато таращил на меня встревоженный глаз. Я сказал ему:
– Я тебя вижу, подлец.
Голубь с гуканьем расправил крылья, снялся с места и уселся на карниз по правую руку от меня. Белый, как символ мира.
– Ты б тут не рассиживался. Соседи жалуются, что ты всё обосрал.
Голубь на миг прикрыл глаза прозрачной плёнкой век.
– Олешек, кто это? – раздался за спиной мамин голос: она наконец проснулась. – Это Стёпка?
Мамка оттеснила меня и начала ворковать с голубем. Безмятежность утра была нарушена, а я вспомнил, что на плите вообще-то стоит яичница.
Конечно, немного подгорела, но так даже лучше.
Я положил нам в тарелки по порции, – два желтка в белом мареве белка, – поставил на стол. Краем уха я слышал, как мама щебечет:
– Нет, Стёпа, и не проси. С восемьдесят пятой приходили, так такие крики тут были: голубятню развели! А я спрашиваю, чем вам не нравится моя голубятня, вот чем?..
Я снял с подставки две кружки. Моя была просто белая, зато большая, а мамина – в форме лютика.
– Мам, тебе как обычно? – спросил я, но она не услышала. Как раз в этот момент мама закашлялась, будто поперхнулась, а затем со вздохом произнесла:
– Последний раз, Стёпа!
Она направилась к холодильнику. Вытащила неоткрытую пачку вчерашнего хлеба и подковырнула обёртку нарощенными ногтями.
Пока мама крошила на карниз хлеб, а Стёпка ел, я достал пачку растворимого кофе, положил себе четыре ложки, ей – две и ещё две сахара. Залил кипятком и свой разбавил молоком.
– Мам, завтрак стынет.
– Сейчас. Он такой смешной!
Я не ответил. Мамка быстро разделила кусок, который держала в руке, на несколько маленьких, положила на подоконник, а сама села за стол. Я взвыл.
– Мам, руки после голубя! И положи ты этот хлеб на место!
– Не ори на мать, – строго произнесла она, но сделала, о чём я просил. Затем села за стол, потянулась за вилкой и опять длинно прокашлялась. Умолкла и заискивающе посмотрела на меня. – Ваньк, а Ваньк…
– М?
– Не подменишь меня сегодня?
– Подменю.
Я опустил глаза в тарелку и продолжил вилкой ломать яичницу: у неё внутри скелетом сидел бекон, и отказывался сдаваться. Проще было просто подцепить его зубчиком и откусить, что я и сделал.
Мама с неохотой начала ломать свою.
– И ты даже не спросишь, почему? – разочарованно спросила она. Даже длинный светлый хвост, в который были собраны волосы, казалось, поник.
Я пожал плечами:
– Хахаль?
– Ага, – мама заулыбалась и торопливо прожевала свой бекон. – У меня смена с двух, понял? Так что успеешь и в школу, и на работу, и не вздумай прогуливать. Лучше возьми с собой еды побольше, а то от этих ваших столовских сосисок у тебя опять начнётся…
Я кашлянул.
– Я не закрыла окно! – всполошилась мама. – Тоже заболеешь! Холодно!
– Нет. Тебе, может, – я кивнул на её белую растянутую футболку и домашние треники. Посмотрел на висевшие над столом часы.
Мама повторила мой жест, поднялась, коротко меня обняла, пробормотав «Спасибо за завтрак, сынок», и побежала одеваться. Её тарелку с остатками яичницы и забытый на столе хлеб я убрал в холодильник, а оставшуюся посуду помыл.
Потом быстро сменил домашние штаны и майку на джинсы-футболку-кроссовки, подхватил рюкзак и бегом спустился вниз.
Кладбище в это время ещё закрыто, поэтому я трусцой побежал в обход. Туман набивался в лёгкие и, чем ближе я продвигался к школе, редел. Словно я был драконом, который вбирает в себя мелкие капельки воды, чтобы согреть внутренним огнём и превратить в смертельно горячий пар. Ррршш!