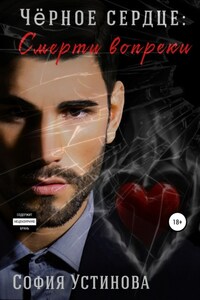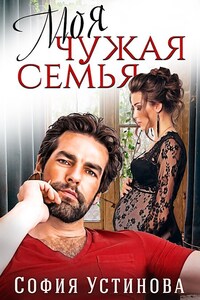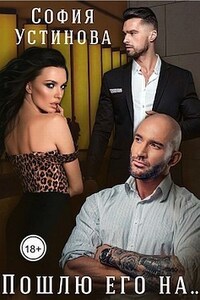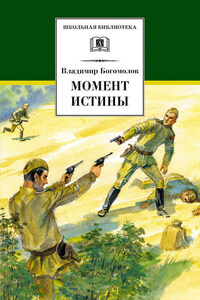Издревле славились земли за рекой Властницей своей щедростью: полями тучными, лесами дремучими, где зверья и ягоды вдосталь, да реками полноводными, что рыбой кишели. Летом – глазу раздолье, душе лепота, а вот зимой – стужа лютая, такая, что и волк в своей берлоге не раз нос отморозит.
Народ тут обитал мирный, от урожая до урожая в трудах праведных дни свои коротал. Молодцы – кто охотник удалой, кто пахарь ретивый. Девки – одна другой краше, хозяюшки искусные, рукодельницы знатные.
Всё бы ладно, да только повадились на те земли степняки. Набеги творили злые, селения жгли, добро грабили, а людей в полон уводили. И неведомо, какая бы участь ждала тот край, кабы не затерялась средь полей золотистых деревушка Оглебычи, про которую и слухом бы никто не слыхивал, если б не братья Микуличи.
Борослав, старший. Силищи в нём было нечеловеческой, медвежьей. Сам кряжистый, в плечах сажень косая, словно из цельного камня вытесан. Лицо суровое, ветрами обветренное, через левую щеку тянулся старый шрам, придавая ему ещё большей грозности. Тяжёлый подбородок тонул в густой, с рыжинкой бороде, а карие, что лесной орех, глаза глядели из-под насупленных бровей так тяжело, что иные мужики в деревне робели.
С малых лет он в кузне отцу, Микуле, подсоблял, а как того не стало, так и вовсе один ремесло отцово тянул. Мог и подкову выковать, и лемех для сохи справить, и топор наточить до звона. А для души, когда на сердце тоска наваливалась, ваял мечи булатные да кольчуги плёл, такие, что ни стрела, ни копьё не брали. Не раз и не два Оглебычи от набегов спасал. Выйдет один против десятка, взмахнёт мечом, что для другого – неподъёмное бревно, и летят вражьи головы с плеч.
Отважный, прямой, как стрела, да только угрюмый и неразговорчивый. Всем был хорош жених, да только не спешил под венец. Охали по нему девки, пирогами норовили угостить, взглядами томными одаривали, а он лишь хмурился. Казались они ему хрупкими слишком, что птенцы желторотые. Чуть что – в слёзы, в визг. А уж этого он на дух не переносил. Да и ответственность пугала. Ещё свежа была в памяти смерть матушки, Еврасии, что в родах изошла. Остался он тогда, десятилетний, с Мстиславом-младенцем на руках. Кто не знал, нипочём бы не поверил, что мальчишка, а не мужик взрослый и корову доит, и дров на зиму рубит, и братца меньшого пеленает да кашей из рожка кормит. Крепко тогда на ноги встал, рано повзрослел.
А вот Мстислав, младший, рос ему под стать – высоким да ладным. Только нравом в другую породу пошёл. Проказник и балагур, хитрый, как лис, и до азарта жадный смертельно. Красоты был притягательной, даже хищной: тёмные кудри вились непокорно, зелёные глаза метали искры, а улыбка была такой обезоруживающей, что даже самые прожжённые торговцы теряли бдительность. Девицы по нему сохли, стаями за ним увивались, да только ни одна удержать не смогла. Он ими любовался, как диковинными птахами, да под каблук лезть не спешил. Куда торопиться в девятнадцать-то вёсен?
В деревне его, в отличие от брата, не уважали – побаивались. Свяжешься с Мстиславом в игре какой – жди беды. Кости игральные к его рукам будто прирастали, что ни бросок – выигрыш. Вечно он то там приврёт, то схитрит, то в спор рисковый ввяжется, а расхлёбывать потом частенько приходилось обоим братьям.
Борослав, хоть и знал цену братниным россказням, а всё одно – поддавался. Кровь-то родная. Хотелось верить. И раз за разом наступал на те же грабли: вытаскивал Мстислава из очередной передряги, хмурил брови, отчитывал, а тот лишь виновато улыбался, клялся-божился, что в последний раз, и стоило старшему брату по-отечески вздохнуть да потрепать его по вихрастой голове, как всё начиналось сначала.