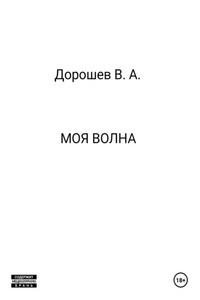– Вот так живешь себе, живешь…
А потом выясняется, что тебя нет…
– Как так, нет?
– А вот так –
Нет и не было никогда…
(Словоохотливый собутыльник)
– Он не был мне другом – это было первое, что он мне сказал, пошевелив жесткой щеткой усов под расчерченным сеточкой красных прожилок носом.
Впрочем, нет… Первым, разумеется, было «разрешите?…», после которого я поднял глаза от изрезанной ножом столешницы и посмотрел – сначала на пузатую, рубчатую, как рубашка гранаты, кружку под шапкой пивной пены… затем на руки, эту кружку держащие, затем на задрипанный, обвисший его пиджачок с затертыми до блеска лацканами. Он и сам был подобен своему пиджачку, такой же затертый и замызганный, весь покрытый пыльным коричневым загаром, чудом сохранившимся с лета, с лысым как колено теменем и седовато-пегой заушной растительностью, с перемотанной изолентой дужкой очков. Ядовито-зеленый свитер отвисал воротом, выставляя напоказ обтянутые гусиной кожей ключицы. Я сделал приглашающий жест, и он оседлал табурет – осторожно, будто святыню, водрузив перед собой кружку.
Если честно, я уже тогда понял, что меня ожидает – неожиданно появившийся сосед по столику являл собою хрестоматийный пример «пивного рассказчика» – эта застенчивая, но вместе с тем общительная полуулыбка, этот налет интеллигентности на круглых стеклах очков… Насколько я могу себе представить интеллигентного человека по кино или книгам – они постоянно, одним и тем же жестом, протирают очки… кто-то белоснежным платочком, а кто-то, увы, такова жизнь – немытыми руками. А если пальцы только что крошили вяленую рыбу, то налет интеллигентности получается весьма заметным…
Итак, признаки «пивного интеллигента» – обязательное «разрешите» перед началом совместного пития… и, конечно, похмельные, синюшные, трепещущие губы, которые он торопливо, будто извиняясь, погрузил в неумолимо опадающую пену – боже мой… да все об этом говорило. Я сразу почувствовал к нему нечто вроде симпатии. Кто-то может не соглашаться, но «пивные рассказчики» в основной своей массе – милые и интересные люди… если, конечно, сразу отмежевать от них небритых сорокалетних дедов, которые способны с утробным хлюпаньем всосать в себя всю кружку – безоговорочно и сразу – а потом, вращая мутными, как бутылочное стекло глазами, начинают сипло вещать, что-нибудь вроде: «Раиска… с-с-стерва, за подкладкой нашла, прикинь, браток – калымные-кровь-пот заначил, а она… а я сварщик-классный (варианты: а я слесарь-шестой-разряд; а я крановщик-ссал-я-на-вас-сверху), а я мужик… я слово сказал – всё!… а она отняла… у-у-у-с-с-сука!!!… а я мужик… а она сука… и всё…». У них обычно серые чугунные лбы и твердокаменные морды, нерушимые, как бетонный надолб. Они никогда не говорят «разрешите», а просто плюхаются рядом и начинают хрипеть, задыхаясь папиросным дымом. Я их терпеть не могу.
Другое дело – настоящие «пивные рассказчики». Как вот этот, например… Я люблю их слушать. И люблю их поить, раз это необходимо. В конце концов, мы же платим за книги, и еще как платим, и ищем их по толкучкам, и еще в очередях стоим. За все надо платить. Так уж заведено…
И я, прикинув наличие денег в кармане – получалось что-то около ста тридцати рублей – отодвинул в сторону блокнот и стал смотреть на него через стол…
* * *
Иногда со мной это бывает… Что-то щелкает в темени – острый, отчётливо-металлический щелчок… и мир вдруг останавливается… Всего на мгновение… Делается серым и плоским… Как карандашный набросок… Не фотография даже – дагерротип начала столетия, омертвие йодистого серебра на желтом картоне. Это так странно… Вот и сейчас – узкое, как бойница, окно вдоль всей стены и серый клубящийся свет, перетекающий через засиженный мухами подоконник. Эта же пивная, полуподвал… окно почти вровень с тротуаром – на нем застыли друг против друга две пары ног от щиколотки до бедра. Брючные и колготно-сетчатые, мужские и женские. Женские ноги, как им и положено, исчезают в широком кожаном раструбе сапог, истончаясь книзу… Во что обут мужчина не видно… наверняка в лаковые штиблеты, сволочь. Около женского колена замер, переворачиваясь в падении, сигаретный окурок. Дальше за ними – шишковатый ствол дерева, параллелепипед бетонного блока, одним ребром утонувший в газоне, а еще дальше – пушистый, мокрый, кружащийся, ранний осенний снег, и перекрученное белье на веревках в глубине двора, и желтая травяная щетина вдоль забора. Еще вдоль забора набросано одноразовых стаканчиков – бурт, смятая оторопь полиэтилена. И над всем этим, и сквозь всё это – тончайшие, острейшие иглы солнечного света, проткнувшие насквозь затянутое облаками, невидимое отсюда небо…