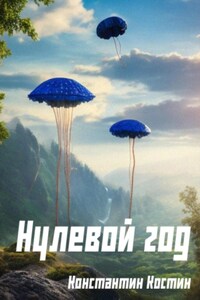Лето ещё не успело развернуться во всю свою сырую, буйную мощь, но ночи уже были тёплыми, тяжёлыми, словно пропитанными дыханьем спящего зверя. Воздух густел, становился осязаемым, вязким от бесчисленных запахов – прелой листвы, болотной сырости, терпкого дыма от догорающего костра и сладковатого, тревожного гниения, что струилось из глубины чащобы. Над островерхими шатрами чёрных елей висел молодой месяц, бледный и кривой, словно потускневший серп, брошенный в небо небрежной рукой жнеца. Свет его был призрачным, обманчивым, он не столько освещал, сколько укутывал мир в тайну, превращая знакомые очертания дремучего леса в настороженные, чужие силуэты.
Вольга сидел на примятой траве у догорающего костра, спиной чувствуя непроглядную тьму чащи, а лицом – слабое дыхание углей. Охотник сидел неподвижно, как изваяние, вживляясь в тишину, втягивая её в себя всеми порами. Влажный мрак медленно обволакивал его, подступая от опушки, и казалось, вот-вот услышишь мерное, тяжёлое дыхание самой земли. Угли алели тускло, почти не давая тепла, лишь подчёркивая звенящую, гнетущую темноту вокруг. Вольга не любил эти первые летние ночи – слишком они были тихие, слишком настороженные, притаившиеся. Даже комары, бич здешних болот, не жужжали в этот миг, будто затаились в ожидании некоего знака.
И знак явился.
Небо разорвалось.
Сперва – лишь тонкая, ослепительно-белая светящаяся нить, прочертившая черноту от края до края, с нестерпимой, яростной точностью рассекшая полог ночи. След её жёг сетчатку, оставаясь в ослеплённых глазах кровавым шрамом. Потом – грохот, не звук, а нечто физическое, ударная волна, от которой содрогнулась и застонала сама земля под ногами. Эхо покатилось меж деревьев, ломая сучья. И далеко-далеко, за холмами, затянутыми сизой дымкой болот, взметнулся, пульсируя, багровый отсвет, озаривший изнанку туч зловещим заревом. Лес замер в абсолютном, немом оцепенении. Стих даже ветер, будто придавленный лапой невидимого исполинского зверя.
Вольга медленно, с какой-то величавой, медвежьей грацией поднялся во весь свой богатырский рост. В глазах ещё плавал и дымился след того огненного росчерка – будто сам Сварог или колдун-кузнец Семаргл провёл раскалённым пером по самой ткани мироздания, оставив на ней руническую надпись из пепла и света.
Он, Вольга Святославич, не верил в деревенские суеверия и бабьи знамения. Но он верил в то, что за всем необычным в этом мире, будь то диковинный зверь или падение звезды с небес, кроется либо добыча, либо опасность. А чаще всего – и то, и другое вместе, две стороны одной секиры. И то, и другое следовало проверить лично.
Топор, его верный спутник, лежал рядом на потертой волчьей шкуре. Длинная рукоять была гладкой от множества прикосновений, а лезвие, даже в этом тусклом свете, отливало холодной, смертельной сталью. Охотник поднял оружие, ощутив знакомую, живительную шершавость ясеневой рукояти, и без колебаний шагнул прочь от умирающего огня, навстречу зареву.
Лес стоял черный, как смоль, и настороженной тихий. Вольга шагал по едва заметной звериной тропе, чувствуя, как влажный, спёртый воздух прилипает к лицу мокрой пеленой. Впереди, меж деревьев, угадывалась чёрная просека, будто кто-то провел по лесу гигантским плугом, выворотившим землю и сокрушившим всё на своём пути. Воздух здесь пах иначе – гарью, оплавленным камнем и чем-то едким, металлическим, отчего во рту возникал привкус меди.
Деревья по краям этого ранения земли стояли обугленные, скрюченные в немых гримасах ужаса, словно в последний миг пытавшиеся отшатнуться от слепящего удара. Земля была взрыта, будто её перепахали неистовым плугом ярости, а в самой глубине воронки, дымясь лёгким паром в ночном воздухе, лежало Оно.