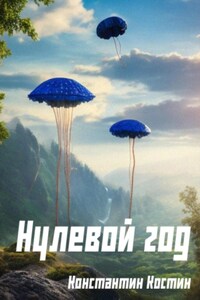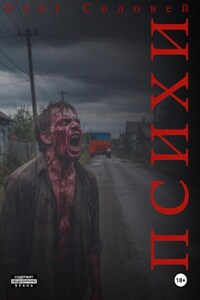Зима тысяча девятьсот двадцать первого года выдалась ранней. Снег накрыл Урал еще в середине ноября, затянув землю плотным саваном. В Пермской губернии, без того не славившейся мягким климатом, уже стояли крепкие ночные морозы. Пока не те, трескучие, февральские, что вымораживают душу и превращают дыхание в ледяную пыль, но холод пробирался под кожу, заставляя сжимать зубы до хруста. Снежинки, падая на кожух ствола «Льюиса», не таяли, а ложились пушистым инеем, будто пулемет сам кутался в белый мех, спасаясь от холода.
– Не курить, – прошипел Осипов, не отрывая взгляда от темных силуэтов домов на горизонте, от труб которых тянулись к звездам струи дыма.
Комиссар лежал за поваленным тополем, ствол которого почти сгнил, превратившись в не самый надежный барьер от пуль. Лучшей защитой была скрытность. Скрытность, нарушить которую могла единственная спичка, единственный огонек от зажженной папиросы. Потому шелест бумаги заставил мужчину насторожиться.
– Да не курю я, Григорий Иванович, не курю, – донесся шепот Вольского, такой тихий, что его едва не заглушил ветер. – Книжонку тут читаю… ох, презанятная, доложу я вам, вещица…
Комиссар даже не повернулся. Иван Захарович, учитель в прошлой жизни, был человеком некурящим. В этом отношении ему можно было верить. Нет, не верить. Осипов никому не верил, а интеллигенции после Петроградского дела – особенно, но Вольскому он доверял в тех пределах, в которых успел познакомиться со слабостями преподавателя. И курение к числу тех слабостей не относилось.
– Послушайте, Григорий Иванович, что тут товарищ Маркс пишет…
– Тишина, – цыкнул командир.
Григорий замер. Ветер стих на мгновение, и в этой хрупкой и недолгой тишине он явственно различил скрип снега. Кто-то приближался со стороны деревни. Приближался скрытно – иначе на белом полотне заснеженного поля чекисты давно приметили б гостя даже в молочном марке ночи. И приближался целенаправленно, точно зная, где затаился отряд.
Комиссар медленно провел ладонью по кобуре, нащупал холодный металл «Маузера» и потянул пистолет на себя. Гущин тоже что-то услышал – ствол пулемета, дрогнул, сбросив с себя пушистое покрывало.
– Ты не пальни сдуру, – тихо произнес Осипов. – Может, это Корж возвращается.
– Не извольте беспокоиться, – заверил Лавр. – Сдуру палить не буду. Если палить – то только по делу, как постановил Совет рабочих и солдатских депутатов в семнадцатом…
Командир поморщился. Вроде, люди все – проверенные, надежные, идейные, насколько это возможно в войне всех против всех. Только слишком уж болтливые, любят поумничать. Но, как сказал товарищ Ленин, приходится делать революцию с теми, кто есть.
Скрип снега повторился. Теперь ближе. Григорий снял курок с предохранительного взвода, но даже такой тихий щелчок прозвучал неестественно громко. Гущин зубами стянул рукавицу, дабы было сподручнее давить на гашетку.
– Не стреляйте, корешки, – раздался сдавленный, хрипловатый шепот из темноты. – Свои!
Из сугроба вынырнула голова Степана.
– Тьфу, шельма, – выругался Лавр, разжимая пальцы на рукоятке «Льюиса». – Чего пужаешь зазря?
Поняв, что его опознали и опасность более не грозит, Корж вылез из снега, отряхнулся – быстро, ловко, по-собачьи, и, поднимая за собой белую пыль, придерживая за приклад висящую на плече винтовку, бодро зашагал к засаде.
– Докладывай, – буркнул командир.
– Докладаю, гражданин комиссар…
– По форме, – процедил сквозь зубы Григорий, поднимаясь на ноги и отряхивая от снега тулуп.
Корж, фыркнув, встал рядом, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, как на допросе.
– А, так это… я и докладаю, товарищ комиссар: банды в деревне нема!
– С чего ты взял?
– Так то ежу понятно, граж… товарищ комиссар! Была б банда – были б кони, а раз коней нема – то и банды нема!