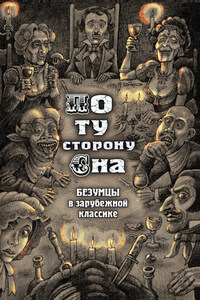Светлым вечером в начале мая 1850-го года дорожная коляска катилась по шоссе по направлению от Москвы к одному из ближайших к ней губернских городов. В коляске, с слугою на козлах, сидели два молодые человека 23–24-х лет, два приятеля, – и вели между собою оживленный разговор:
– Бог знает, что ты со мною делаешь, Ашанин, – говорил полуозабоченно, полуусмехаясь, один из них, светловолосый, с нежным цветом кожи и большими серыми, красивого очерка глазами.
Тот, к которому относились эти слова, был то, что называется писаный красавец, черноглазый и чернокудрый, с каким-то победным и вместе с тем лукавым выражением лица, слывший в то время в Москве неотразимым Дон-Жуаном.
– А что я с тобою, с казанским сиротою, делаю? – передразнивая приятеля, весело рассмеялся он.
– Ну, с какой стати еду я с тобою в Сицкое, к людям, о которых я понятия не имею?
– Во-первых, ты едешь не в Сицкое, а куда тебе следует, – то есть в Сашино, к себе домой, к милейшей тетушке твоей Софье Ивановне, а в Сицкое ты только заезжаешь из дружеской услуги – меня довезти. Во-вторых, сам ты говоришь, – ты князя Лариона Васильевича Шастунова знаешь с детства.
Белокурый молодой человек – звали его Гундуровым – качнул головой:
– Знаю!.. Десять лет тому назад, когда я мальчишкою из дворянского института приезжал на каникулы в Сашино, я его два-три раза видел у тетушки. Важное знакомство!
– Все одно, он с Софьей Ивановной давно и хорошо знаком, а тебя он теперь по твоей университетской репутации знает… Да и я мало ли про тебя всем им говорил зимою!.. Ручаюсь тебе, что примет он вашу милость наилюбезнейшим образом: он вообще благоволит к молодым людям, а тебя тем более оценит по первому же разговору.
– Если бы мы еще к нему собственно ехали, – молвил Гундуров, – так и быть!.. А то ведь он и сам гостит в Сицком. Оно ведь не его?..
– А невестки его, княгини Аглаи Константиновны, – знаю. А князь Ларион – брат ее мужа и опекун ее детей, следовательно, не гостит, а живет по праву в Сицком… А там театр, во всей форме театр, с ложами, говорят, и с помещением человек на четыреста, и княжна Лина, восхитительнейшая Офелия, какую себе может только представить самое пламенное воображение! – горячо расходился чернокудрый красавец.
Приятель его рассмеялся.
– Ну, поскакал теперь на своем коньке! – сказал он.
– И ни чуточки!.. ты знаешь, барышни не по моей части, – это раз, а затем, княжна Лина одно из тех созданий, – есть такие! (какая-то серьезная, чуть не грустная нота зазвучала в голосе Ашанина), – к которому ты с нечистым помыслом и подойти не решишься… и наш брат, отпетый ходок, чует это вернее, чем все вы, непорочные, взятые вместе! Я на нее поэтому вовсе не смотрю как на женщину, а, говорю тебе, единственно как на Офелию…
– И с талантом она, ты думаешь? – спросил Гундуров, невольно увлекаясь.
– Не сомневаюсь, хотя она, как говорила, всего раз играла за границей, в какой-то французской пьесе. Она не может не быть талантлива!
Белокурый молодой человек задумался.
– Воля твоя, любезный друг, – заговорил он нерешительно, – а, согласись ты с этим, очень неловко выходит, что я у совершенно незнакомых мне людей стану вдруг ломаться на сцене?..