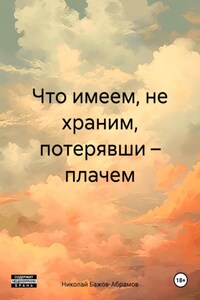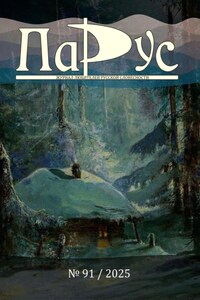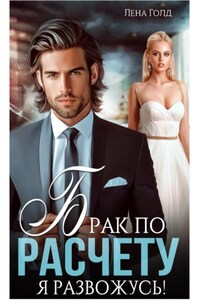Посвящаю Л.В.
Новая жена Владимира Куренкова, в то утро, необычно рано открыла глаза. Обычно она, когда просыпалась толчком по заводному будильнику, всегда после выкрадывала минуты две, три, прислушиваясь в тишину утра в спальне.
Сейчас она еще в полу сонная – только что открыла глаза. Затем, шумно позевывая, вытерла с краев губ слюны ладонями; да и по времени, по свету дня, брезжил только бледно – серый цвет неба, за занавесочным балконным окном, да и будильник, на тумбе, заведенный ею перед сном, на шесть утра, все еще молчал. Затем она, вывернувшись на мягкий живот, осторожно повернула голову в сторону мужу, спящего с нею рядом, калачиком. «Спит. Ничего ему не беспокоит», – говорит она ему, мысленно, c не прикрытой злобой. Хочется ей беспардонно растолкать его – разбудить.
Ей еще вчера было выпытать у мужа, куда он дел свою дочь, Снежану. Но, вот, не задача, еще не совсем привыкла, что она теперь у него законная уже жена. Всего лишь два месяца минуло, как она ему стала, конечно, стараниями его тестя – буржуя, законной его уже женою. Потому, конечно же, забоялась растолкать сразу его, после пробуждения, догадываясь по её понятием, муж её за пропажу его дочери, по головке ей, точно, не погладит. Хватило только у нее, в беспокойстве, на цыпочках осторожненько добежать до ванны, закрыться там, на крючок, позвонить вновь няне, как и вчера, перед сном, – тогда это было под вечер,– уточняя по точнее, подробно, что же на самом деле произошло с её падчерицей Снежаной, в тот зло полученный день? И почему она их с няней вчера еще, под вечер, не встретила во дворе, как обычно: возле своего подъезда? Видимо, она и на этот раз, в горячке, да и все еще спросонья, в разговоре с няней, так ничего и не поняла. Ошпаренная, а та, видимо, снова в своей грубой манере, как и вчера, прокричала ей: «Ты вообще – то, в своем уме, Лариска? Зачем мне тебе – то врать?..» После, вытолкнув себя из ванны, и вся такая в испаринах уже, начала беспричинно носиться из комнаты на кухню, еще не стоптанных ею тапочках. Злобно при этом еще, сверкала с мокрыми выплаканными глазами на разбуженного ею уже мужа, теперь сидящего все еще в трусах безучастно, от её, будто, проблем, за столом, у работающего телевизора, на кухне. И еще, как бы пробегая, будто бы случайно, нарочно дергано задевала его: то плечом, а то и ногою. А то и, выходя из себя, нервно, по ходу беготни, отбрасывая дрожащею рукою, лезущие ей на глаза волосы, сверкала с мокрыми уже глазами, одновременно выкрикивая на ходу: «Зад, еще не отсидел?! Сидит он мне тут … позорит жену».
А день, а и правда, просыпался обычный, как все, наверное, и другие дни в этой семье. Исключение, если только: он постепенно приучил её, особенно по субботним и воскресным дням, они, в эти в так называемые выходные дни, если им не надо было ехать в загородный дом бабушки и дедушки, тогда они всей семьей, после завтрака, выбирались на улицу, вроде как проветрить себя, в пределах своего пятиэтажного панельного дома.
Он, конечно, если погода еще позволяла: не было ветра, дождя, тащил на улицу и дочку – Снежану. А жена его нынешняя, после Москвы, да и после, наконец, развода со своим прежним буржуем мужем, еще не совсем, видимо, осознавала – не пришла, видимо, еще в себя, что она теперь, действительно, законная уже жена его, а не его полюбовница в прошлом.
Поэтому, изредка тогда в эти их выходные дни, наблюдая вкрадчиво со стороны за своею новою женою, в этих вокруг дома прогулках, он, а и правда, поражался искренно даже, с её сегодняшними выходками. «Вроде она, вроде, и не она», – тогда говорил он себе. Затем, с грустью, покачиванием головы, всегда констатировал. «Да – а, время, видимо, и Москва, выходит, меняет людей».