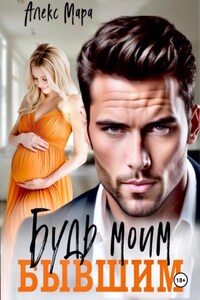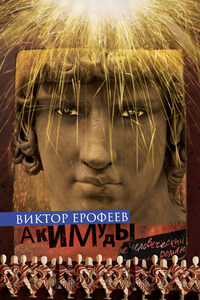Рим дышал жаром даже ночью, выдыхая в открытые окна дневную усталость раскаленных камней. Анна сидела в кресле, подтянув колени к груди, и смотрела на город, который перестал быть для нее домом, превратившись в огромный, богато украшенный мавзолей. Мавзолей ее чувств, ее слов, ее самой. За окном, в раме из плюща, рассыпались по холмам огни, похожие на упавшие звезды, но их свет не достигал ее, застревая в толстом, вязком стекле ее апатии. Уже год. Триста шестьдесят пять пустых вращений земли, триста шестьдесят пять рассветов, которые она не встречала, и закатов, которых не провожала. Они просто случались, как случается прибой с безразличными к нему скалами.
Ее квартира, когда-то бывшая средоточием жизни, споров и смеха, теперь напоминала музей заброшенных вещей. Книги на полках, казалось, покрылись невидимым слоем пыли – пыли забвения. Ноутбук на столе спал мертвым сном, на его темном экране отражалось ее бледное, невыразительное лицо. Последний открытый файл назывался «Глава четвертая», и курсор в нем застыл на середине предложения год назад. Он так и мигал там несколько недель, словно отчаянное, слабое сердцебиение, а потом погас, когда сел аккумулятор. Она больше не заряжала его. Слова ушли. Они покинули ее вместе с ним, забрав с собой все цвета, все вкусы, все ощущения. Он ушел, и мир стал плоским, двухмерным, как плохая фотография.
Его звали Марко. Имя, которое она больше не произносила вслух, но которое эхом отдавалось в каждом ударе ее сердца, в каждой паузе между мыслями. Он был ее архитектором, не только по профессии, но и по сути. Он выстроил ее мир, наполнил его смыслом, светом и воздухом, а потом одним движением вынул несущую стену, и все рухнуло, погребая ее под обломками. Расставание было не просто болезненным, оно было аннигилирующим. Оно стерло ее, оставив лишь оболочку, пустой контур, который продолжал по инерции дышать, ходить, покупать продукты в маленькой лавке на углу. Лавочник, синьор Марио, каждый раз спрашивал: «Все хорошо, синьорина?», и она каждый раз кивала, изображая улыбку, которая не доходила до глаз. Ее глаза, когда-то живые, чуть насмешливые, теперь были похожи на два потухших колодца.
Она встала и подошла к книжному шкафу. Ее пальцы, длинные, тонкие, скользнули по корешкам. Вот ее книга. Единственная. «Шелковая тишина». Удивительно, но она все еще продавалась. Критики назвали ее «пронзительным и тонким дебютом», «романом, написанным на выдохе». Сейчас ей казалось, что его написал кто-то другой. Та женщина умела чувствовать, умела превращать боль в метафоры, а любовь – в кружево из слов. Эта женщина умерла. Анна провела пальцами по своему имени на обложке. Анна Морелли. Кто это? Просто набор букв.
Она помнила, как Марко говорил, что ее руки – это отдельное произведение искусства. Он мог часами держать их в своих, целовать каждый палец, восхищаясь их изяществом. Сейчас ее руки казались ей чужими, двумя бледными пауками, живущими своей, отдельной от нее жизнью. Они все еще могли держать чашку кофе, могли набирать номер телефона издателя, чтобы в очередной раз сказать, что рукопись «почти готова», но они разучились главному – они разучились касаться. Касаться клавиш, чтобы рождался текст. Касаться другого человека, чтобы почувствовать тепло. Касаться собственной кожи, чтобы убедиться, что она еще существует.
Тело. Оно стало тюрьмой. Молчаливой, послушной, но абсолютно чужой. Она кормила его, мыла, укладывала спать, но не чувствовала его. Оно было просто механизмом, который нужно было поддерживать в рабочем состоянии. Иногда по ночам она просыпалась от фантомного ощущения его прикосновений – тяжесть его руки на ее бедре, его дыхание на ее шее. И тогда на мгновение тело вспоминало, как быть живым, и вздрагивало, пронзенное судорогой памяти. Но потом все снова застывало, превращаясь в холодный мрамор.