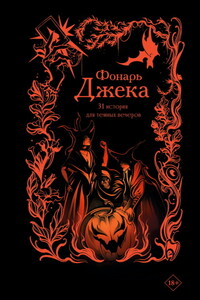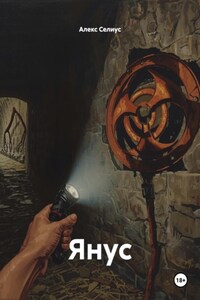Город засыпал, накрываясь вороньим крылом поздней осени. Воздух, еще недавно пропитанный дымом из сотен труб и запахом свежеиспеченного хлеба, теперь остыл и густо пах дождем, навозом и влажным камнем. От реки, затянутой уже белесой пеленой тумана, тянуло влажной прохладой и запахом гниющих водорослей. Чуть выше, на уровне человеческого роста, висел основной смрад: едкая смесь испарений от луж с дождевой водой, смешавшейся с содержимым ночных горшков, выплеснутых из окон всего несколько часов назад; кисловатый дух браги из дверей таверны «Трезубец» и вездесущая, въедливая пыль угля, прибитая влагой к булыжникам мостовой. А выше, под самыми остроконечными крышами, уже пахло дымом – не бедняцких очагов, а добротных каминов, где жгли сухие дубовые поленья.
Элиас шел, утопая по щиколотку в липкой, почти живой грязи Улицы Святого Элигия, покровителя ремесленников. Она была широкой, но незамощенной, вечной жертвой тяжелых телег, возивших железную руду и уголь к мастерским. По обеим сторонам теснились дома, будто наклонившиеся друг к другу, чтобы поделиться сплетнями. Нижние этажи из серого, потрескавшегося камня, верхние – из темного, почти черного дерева, их этажи нависали над улицей, крадя у неба последние лучи заката. В редких освещенных окнах мелькали силуэты: кто-то доедал скудный ужин, кто-то уже молился перед сном. Где-то плакал ребенок. Элиас машинально отметил это – плач был хриплым, надсадным. «Простуда, – промелькнуло в голове. – Или коклюш. Скоро матери прибегут за сиропом из мака».
Его мысли, однако, были не здесь. Внутренним взором он осматривал содержимое своей походной аптечки, оставленной у постели более знатного пациента днем ранее. «Иглы для кровопускания есть, слава Богу. Баночка с пиявками – пустая, всех поставил купцу Симонасу от давления… Жаль. Шалфей, розмарин, кора ивы… Хватит ли? А если это горячка с поражением мозга? Нужен был опий, для успокоения… Черт. А если пятна, как говорит Боргар, похожи на рожу? Тогда нужен пластырь из корня окопника…» Он мысленно проклинал себя за неподготовленность, но вызов от кузнеца поступил уже глубокой ночью, когда лавки аптекаря были заперты.
Боргар, шагавший впереди, своим массивным телом буквально расталкивая сгущающиеся сумерки, обернулся, и его лицо, усеянное тенями от прыгающего пламени его же факела, казалось высеченным из старого, потрескавшегося дуба.
– Доктор, прошу, прибавьте шагу, – его голос, низкий и хриплый, как скрип несмазанной телеги, пророкотал сквозь наступающую тишину. – Он… горит весь. Жар такой, что руку отдергиваешь. А эти пятна… Словно его изнутри тушь какая-то проступает. Синяя, багровая.
Элиас, спотыкаясь о невидимую в грязи кочку, едва удержал равновесие. Его ум, настроенный на диагностику, тут же отозвался.
«Темные пятна? Не сыпь, не краснота… Синие? Как гематомы? Но откуда у ребенка обширные гематомы без травмы? Чума? Нет, Господь с тобой, Элиас. Чума была в прошлом веке. И чума начинается с бубонов, огромных опухших желез, а не с пятен… Или нет? Гален описывал… Нет, не может быть».
– Пятна? – переспросил он вслух, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Конкретно где, Боргар? На груди? На ногах?
– Под мышкой, на правом боку… – кузнец мрачно качнул головой, ускоряя шаг. Его могучая фигура, обычно воплощающая несокрушимую силу, сейчас казалась сгорбленной под гнетом беспокойства. – И шишка там же, размером с яйцо голубиное. Трогать не дает, кричит. Бредит. Просит пить, а глотнуть не может, все назад идет.
«Лихорадка, рвота, болезненная опухоль в паху или подмышкой…» Список симптомов складывался в ужасающую картину. В памяти всплывали пожелтевшие страницы старых манускриптов, описывающих «черную смерть». Сердце Элиаса заколотилось чаще, уже не от быстрой ходьбы, а от леденящего предчувствия.