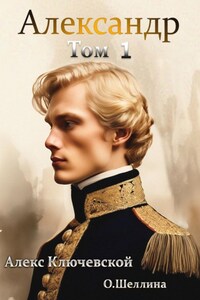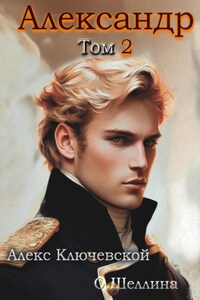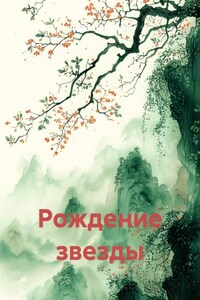Иван Долгорукий покосился на сидящего с невозмутимым видом за огромным столом рыжего парня, что-то помечающего в развёрнутом перед ним листе бумаги, и раздражённо стукнул кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидел, ожидая, когда же уже государь соизволит его принять.
Да, многое изменилось за время его отсутствия, очень многое. А когда-то он, помнится, ногой такие двери открывал, и всё ему с рук сходило, а вот теперь смотри-ка, как смерд какой, ждёт сидит, когда верный пёс получит от хозяина команду впустить его. Это, если тот унизительный обыск опустить, коий ему на входе гвардейцы учинили, даже сапоги велели снять и потрясти, прежде чем снова надеть позволили. Всё это словно опускало его ниже самого Кузина, а ведь Иван Долгорукий всё ещё князь.
Он даже попытался возразить, когда шпагу его забрали и в специальную нишу поставили, сказав, что на выходе сможет забрать. Только вот гвардейцы не прониклись, и всё равно отобрали оружие. Но вышедший на шум Михайлов хмуро сказал, что в месте пребывания императорской семьи ни одна шельма вооружённой ходить не будет, за исключением самого государя и некоторых особо приближённых лиц, имеющих право доступа без доклада. И что князь Долгорукий к этим людям не относится.
Это было в первый его визит сюда, в эту приёмную, больше он таких ошибок не совершал и обыску не сопротивлялся, так же как и передаче шпаги на хранение.
– Да сколько мне ждать-то? Может, вообще домой идти, дабы время зазря не терять? Уже третий раз отворот-поворот даёшь, – Иван не выдержал и задал вполне нормальный, с его точки зрения, вопрос. Кузин же, вот пёсий сын, из холопов так высоко поднявшийся, только посмотрел на него исподлобья и покачал головой:
– Не могу ответить тебе, князь. В таких вещах, как вот такая аудиенция, без предварительного доклада, я государю не могу подсказывать. Он сам должен решить, сможет ли отложить то дело, коим сейчас занимается, и уделить тебе времени своего, али нет. Вот тогда действительно придётся тебе, князь, домой идти и ждать, когда гонец с точным временем явится. Ты же отказываешься пойти простым путём, словно что-то доказать кому желаешь, – и Кузин снова уткнулся в какую-то бумагу.
Ну, хотя бы смотреть перестал на него так, будто и не ожидал увидеть когда-нибудь Долгорукова в живых, словно бы призрак к нему в приёмную влетел. Вот же словечко придумали «приёмная», но суть верно передана, тут и не поспоришь. И Иван, скрипя зубами, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.
Он очень устал, отбиваясь от нападок Петьки Шереметьева, который дал ему с семьёй приют. Не смог он сестру родную, да ещё и с младенчиком на руках, на улицу выкинуть, но крови уже попортил основательно, да так, что Иван утром, не отдохнув как следует, рванул сюда, подозревая, что ждать придётся снова, как и в те два раза, когда государь так и не допустил его до себя.
Однако подремать ему не дали. Тишину приёмной, прерываемую изредка скрипом пера и шелестом бумаги, нарушил топот не одной пары ног, раздавшихся за дверью. Она практически сразу распахнулась, и в приёмную быстрым шагом вошли четверо человек, среди которых Иван, приоткрывший один глаз, без труда узнал Томаса Гордона, Василия Мятлева и Артемия Толбухина. Четвёртый – молоденький совсем гардемарин, с посеревшим от усталости лицом, был ему не знаком.
Мельком взглянув на Ивана и, кажется, не узнав в дремавшем в кресле офицере в потрёпанном камзоле и с сильно загорелым, обветренным лицом бывшего блистательного князя, троица довольно известных личностей направилась прямиком к приподнявшемуся и нахмурившемуся Митьке. А ведь не так уж и давно был князь этот первейшим государевым фаворитом, коему прощалось абсолютно всё… до определённого времени. Гардемарин же, оглянувшись по сторонам, присел в кресло, стоящее рядом с тем, в котором расположился Долгорукий.