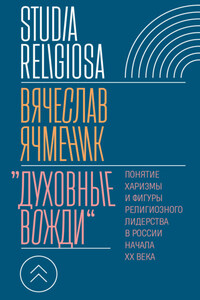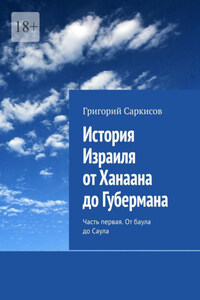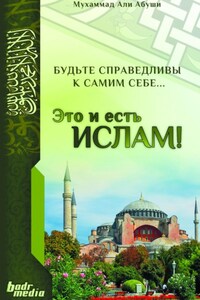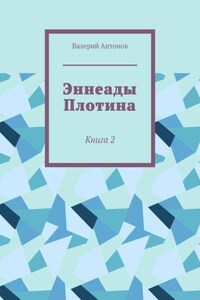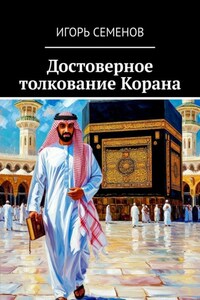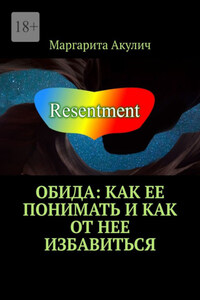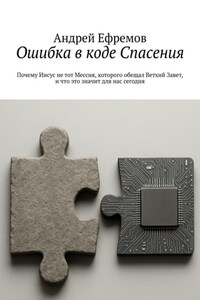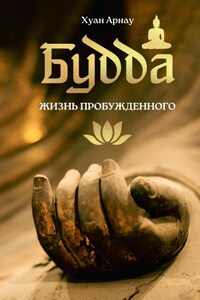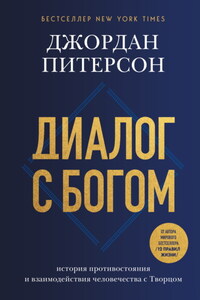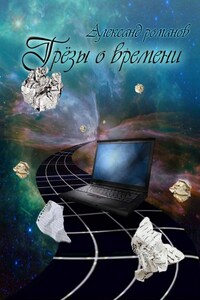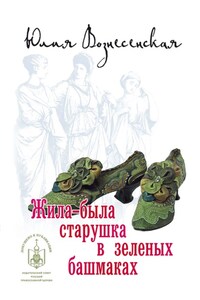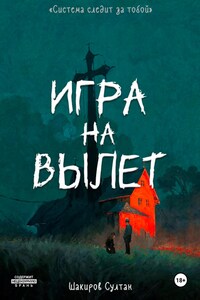© В. Ячменик, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Мой интерес к понятию харизмы был связан с исследованиями проблем религиозного лидерства в России. Часто в этом контексте приходится сталкиваться с разного рода исследовательскими схемами, основной из которых является оппозиция личности и института. В историографии, касающейся проблем власти в церковном сообществе, это противопоставление, как правило, выражается категориями должности и харизмы. В такого рода модели легко укладываются отдельные сюжеты из истории религии, однако эта оппозиция кажется не объективно данной, а скорее культурно обусловленной.
В ходе исследования культурных истоков дихотомии харизмы и института нам (прежде всего моим коллегам из Лаборатории исследований церковных институций ПСТГУ) удалось одновременно указать на рождение этой оппозиции в специфическом для культуры и религии контексте рубежа XIX и XX веков и увидеть, что эта схема является лишь одной из множества логик описания феномена религиозной власти.
В ходе чтения главных теоретиков харизматического лидерства выяснилось, что отечественные дореволюционные ученые не были изолированы от зарождающихся академических дискуссий вокруг концепта харизмы в социологии и истории религии начала XX века. Мне показалось, что на фоне относительно исследованного контекста протестантских дискуссий о харизме (тем более полемики о харизме в наследии М. Вебера) не изученные вовсе представления о харизме в текстах русских исследователей могут стать подходящим кейсом для иллюстрации тезиса о формировании новых и об усложнении старых моделей религиозного лидерства.
Мое исследование выстроено вокруг тезиса о связи между интересом к понятию харизмы в начале века и возникновением новых описаний религиозной власти. В первой главе восстановлен интеллектуальный контекст, в рамках которого исследователи обращаются к понятию «харизма» на рубеже XIX и XX веков в немецком протестантском и русском православном богословии. Во второй главе представлена попытка русских религиозных мыслителей рассмотреть харизму как основание для личностной власти, не связанной с должностью. Здесь показывается, как на уровне понятийного аппарата впервые в русской среде возникает оппозиция харизмы и должности. Сознательный разрыв этих двух оснований власти приводит, во-первых, к формированию дискурса о различных носителях харизматической власти – фигурами религиозного лидерства становятся диакониссы, пророки, старцы и другие герои церковной истории, «воскресить» которых в своей реальности пытаются интеллектуалы начала XX века. Во-вторых, если «харизматическое» и «должностное» оказываются разделены, то естественным шагом в дискуссиях о них становится продумывание разного рода моделей взаимодействия между носителями харизмы и носителями должности, будь то подчинение, подавление или независимое сосуществование одних с другими. В третьей главе проанализированы тексты, в которых при попытке описания церковной власти харизма и должность определяются как единый феномен. Фигурой, в отношении которой эти два элемента дискурса отождествляются, оказывается патриарх. Дискуссии о должностной харизме патриарха становятся реакцией церковного сообщества на условия реформирования церковного устройства в предреволюционные годы и вместе с тем стимулом для его консолидации в условиях советских репрессий.
Публикация этой книги стала возможной благодаря конкурсу Русского религиоведческого общества и издательства «Новое литературное обозрение». Я крайне благодарен членам общества и редактору серии Studia Religiosa С. Елагину за предоставленную мне возможность и их комментарии к работе. Неоценимый вклад в улучшение этой книги внес научный редактор книги – А. Л. Беглов, его замечания и комментарии остались важны для моей научной работы в целом.