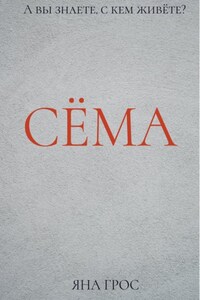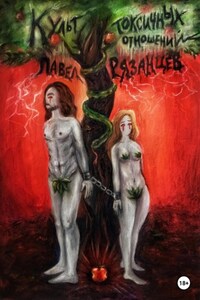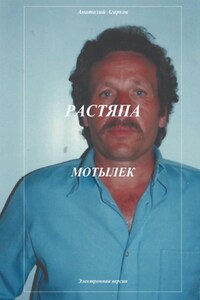Жизнь моя похожа на пестротканый экзотический ковер, в который вплетены восточные арабески, африканские орнаменты, северные мотивы, математические и химические формулы и сложные топологические формы, образы диковинных животных и растений из амазонских джунглей и глубин Океана, странные ландшафты, видения давно ушедших эпох и народов и космические, внеземные знаки – порождение далеких, недостижимых миров… как вскользь где-то упомянутая ярмарочная полифония, буйно цветущий сад, постоянно флуктуирующие, объединяющиеся и разъединяющиеся силы, приводящие в движение ряды тропов, признаков сущего, дающих видение многомерного, полицентричного, протейски-изменчивого мира…
Так думал Джордж Константинидис (урожденный Георгий Константинович Константиниди) в спускаемом аппарате, из-за сбоя автоматики ушедшем с орбиты по сильно отклонившейся от расчетной траектории и приземлившемся в дышащих туманами болотах в глухих влажных джунглях – где-то, где сходятся границы Бразилии, Суринама и Французской Гвианы. Связь пропала быстро, он и успел разве что сообщить, что аппарат застрял в болоте посреди тропического леса. Его просили сохранять спокойствие, убеждали, что место посадки с некоторой погрешностью установлено, и бразильская спасательная авиация с рассветом отправится на поиски. Власти Суринама и Французской Гвианы также извещены… Перед ним не стояли концептуальные латурианские вопросы «где приземлиться?» и «где я?». Сеть взаимодействующих событий и обстоятельств: системного социотехнического конфликта на орбитальной станции, давшей сбой автоматики, плохо скоординированных (взаимо)действий наземных служб, нового климатического режима, пандемии и вызванных ею новых планетарных эффектов и политик и многого, многого другого решили их за него. Стартовав из глобального мира, он не вернулся в него же, но приземлился – хотя и недобровольно (приземление, воспринятое как падение) – на новой планете со старым названием Земля. Он прикоснулся к ней и начал осваивать ее, переживая опыт взаимодействия с ней – трудный опыт нового землянина. Обозримое в откинувшийся люк и иллюминаторы капсулы пространство выдавало знаки: зарождающегося после недавней сухой тропической грозы лесного пожара – смешанного с болотными испарениями едковатого дыма, стелющегося над пока еще не тронутыми в этом месте человек-машинной активностью джунглями, и нечаянного приземления в виде висящего на дереве оранжевого парашюта. Эти испарения и дым так странно действовали на него, или, быть может, то были какие-то иные эманации новой старой планеты, но он, сидя в тесной капсуле, странным образом одновременно ощущал себя то валяющимся на полу вонючего подвала в украинской Буче – грязным, избитым, голодным и трясущимся от страха, то прячущимся от путинских ракет в темном, обесточенном харьковском метро, то контуженным, зажатым в сотрясающемся от близких взрывов подземном бункере мариупольского завода «Азовсталь» под непрерывный грохот тяжелых бомб над головой и всего царящего вокруг хаоса украинской «Герники»… Вынужденное бездействие в ожидании спасательной группы заставило астронавта достать из наплечного кармана скафандра синий блокнот и продолжить:
[записки падшего ангела постмодерна]
Вечер был томным, но не тягучим, африканским, как когда-то в Марракеше, а пронизанным дублинским туманом и вибрирующей джойсовской атмосферой места рядом с Темпл-баром, где мы сидели. Женщины говорили о чем-то между собой по-испански. Мы пили: Винсенто Абурто Мартинес – эль, я – кофе по-ирландски с хорошей объемной долей виски. Винсенто рассказывал про хочипильи – ацтекского идола, столь близкого его мексиканскому сердцу. Рассказ о хочипильи логически продолжал наш общий разговор о грибах, начатый за полтора года до этого в Варшаве. Мы тоже тогда сидели так: Винсенто, я, Мартин Клёстер и Йохан Бергверф – голландец, всю жизнь живущий в Дубае и каждый год меняющий филиппинских любовниц в стиле «петит», впрочем, похожих одна на другую, как стандартные смазливые куклы с одного конвейера. Пили пиво. Все были уже в приличном градусе и говорили о грибах. Я показывал фото мухоморов на моем телефоне, снятое прошлым летом. Я назвал его «тропа мухоморов» и выложил в своем «грибном блоге» в Интернете. Американским грибникам понравилось. Десятки, да нет, пожалуй, сотни мухоморов (собственно, я их не считал) выстроились в узкую извилистую линию, идущую через лес. Такого я еще не видел. Я говорил о Ленине, которому мухоморы навеяли апрельские тезисы и вызвали видение революции. Винсенто возбудился – его вдохновила комбинация грибы-видения. Он тут же подхватил и начал про мексиканские поганки Psilocybe aztecorum, которые он собирает и сушит. «Перед тем, как их употреблять – говорил он – нужно прийти к внутреннему миру, согласию с самим собой, отбросить все заботы, тревоги, мысли о работе, семье, тогда грибы будут впрок, иначе – пустая суета, да и неизвестно еще, как желудок отреагирует…». Тогда мы не вспоминали Кастаньеду, мы пришли к нему уже в Дублине, подобравшись, как бы вскользь, через хочипильи. А хочипильи оказался кстати. Дело в том, что ацтеки украшали этих идолов как раз символами Psilocybe aztecorum и прочих мексиканских поганок. Ну, поганками-то мы, грибники, как водится, называем все грибы, которых не знаем. Так, мексиканский грибник, подсевший на свои Psilocybe aztecorum и не знающий ничего лучшего, наверняка назовет поганкой подберезовик, который он в глаза не видел.