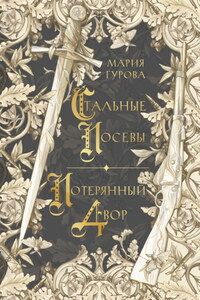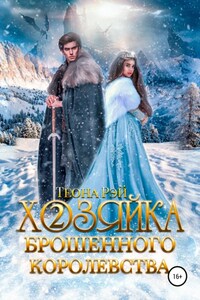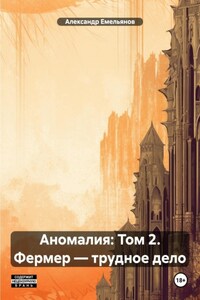Погасла керосиновая лампа, уступив комнату лунному свету. А он протянулся тусклыми прожекторами из застекленных бойниц. Один луч высвечивал сопящие носы, другой – поддергивающиеся пальцы ног, высунутые из-под одеяла, третий – ссутулившуюся на койке мальчишескую фигуру, угловатую, ссутулившуюся под шерстью наброшенного на голову пледа. Спальни послушников были похожи на казармы. Ночью пустота пространства не так давила, как дневная, озаренная солнечными лучами, аскеза. Тогда-то все было явно наперечет: семь кроватей, семь табуретов возле них, один шкаф на всех. В нем было ровно восемь полок, на семи из них лежали аккуратно сложенные короткие брюки, рубашка, гетры, свитер, галстук и портупея, а восьмая всегда пустовала. Ее ни за что нельзя было занимать, у членов ордена и школяров должно было быть всего поровну, даже если это было вот так нелогично. Семь серых кителей висели на штанге в платяном шкафу. Личных вещей у каждого послушника было мало, даже мыло и полотенца были общими. Посреди спальни стоял чугунный очаг – единственный источник тепла, не считая семерых ребят. Изо ртов шел пар, когда кто-то из них шумно выдыхал во сне. Они привыкли терпеть, выучились объяснять необходимость добровольных лишений, некоторые даже смогли воспевать свои тяготы и жертвы. Каждый в этой комнате был младше тринадцати лет, потому никто из них еще не научился заправски храпеть, как это делали старшие ребята. Избалованные беззвучными ночами, мальчишки спали чутко и ворочались, заслышав шорох. Стылый неуютный покой царил в любой из таких комнат. А еще кричащая нехватка того самого важного, в чем так нуждался каждый юноша: тишины внутри задернутого полога, любимых безделушек и непринужденного бардака. Ничего подобного здесь не находилось. Каждому послушнику ордена разрешалось хранить одну книгу и одну любую вещь. Вот и Тристан имел такую – Ситцевого рыцаря – тряпичную куклу. Игрушку еще в раннем детстве смастерил для него сэр Мерсигер, почитаемый и обожаемый школярами наставник. До того он проникался судьбами каждого ученика, что не смог обделить заботой осиротевшего Тристана. Учитель тогда взял зеленую ткань – кривой обрез ситца, что хранился у маленького Тристана – и сшил ему куклу, а вместо копья вложил в игрушечную руку обструганную и разукрашенную веточку терна. Сэр Мерсигер рассказал, что кричащего годовалого Тристана привезли завернутым в этот самый ситец, и что кусок ткани походил на наспех разрезанную юбку или платье. И Тристан всю жизнь верил, что эта юбка или платье когда-то принадлежали его матери. Оттого он так крепко любил своего Ситцевого рыцаря. Тристан говорил:
– Вы, сэр, служите прекраснейшей из дам – моей матушке – раз носите на себе часть ее платья!
А Ситцевый рыцарь отвечал:
– Конечно, Тристан! Большая честь служить такой леди! Вот сами и поймете, как станете рыцарем.
– Вам следует быть идеальным, чтобы не посрамить ее имени, – поучал его Тристан.
– Для того и стараюсь! Я бы не посмел запятнать ее честь своими недостатками.
– А разве они у вас есть, сэр? – удивился Тристан.
– Всего один: я неживой, – ответил Ситцевый рыцарь, сотрясаемый рукой мальчика.
– Так не пойдет. Ее бы это очень оскорбило и, я уверен, расстроило.
Ситцевый рыцарь браво взмахнул копьем и закивал, подталкиваемый указательным пальцем Тристана.
– Вот и я думаю, что не пойдет. Нам должно это исправить!
В хрупкий мир под пледом ворвался голос извне.
– Тристан, что ты там делаешь? Ложись спать!
Нехотя и выждав, Тристан ответил:
– Не мешай, Гаро, я на военном совете.
Послышался вздох, полный возмущения. Военные советы длятся долго, как говорят.
– Какой еще совет за полночь? Спи давай! – шикнул Гаро.