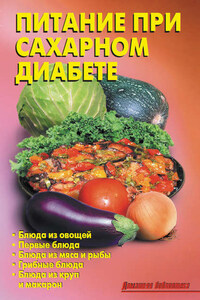«Рассвет еще не успел разорвать сизую пелену тумана, а деревня уже пробуждалась. С первым хриплым криком петуха, сорвавшимся с покосившегося плетня, из низких изб, крытых подгнившей соломой, потянулись крестьяне – мужчины с заскорузлыми, в трещинах руками, женщины в потертых платках, выцветших от солнца и стирки, дети, едва оторвавшиеся от земли ростом, босоногие, с перепачканными в глине коленками.
Хозяйские поля ждали: черные, вспаханные накануне полосы земли, испещренные следами борон, тянулись до самого леса, где в сыроватой тени пахло прелой хвоей и грибной сыростью. Воздух был густым, пропитанным запахом перегноя и конского пота.
Староста Аристах, в выцветшем кафтане с продранными локтями и сапогах, сбитых на бок от долгой носки, выкрикивал указания, сверяясь с берестяной грамоткой, испещренной неровными значками. «Сеять будем рожь, как велел барин! – гудел он, поправляя помятую шапку, из-под которой выбивались седые пряди. – Чтоб к осени амбары ломились, а не то…» Не договорил, но все поняли: неурожай – это потрепанная плеть старосты, долги, которые впишут в потрескавшуюся долговую книгу, и голодные глаза детей, смотрящие в пустые котлы.
Мужики, кряхтя, брались за деревянные сохи, потемневшие от времени, с выщербленными рукоятями. Кони, худые, с проступающими ребрами, но покорные, фыркали, впрягаясь в оглобли, оставляя в земле глубокие следы подкованных копыт. Землю рыхлили повторно – глубже, чтобы «семя легло в ладонь земли», как бормотал дед Сивер, самый старый в деревне, чья спина давно согнулась дугой, а пальцы, скрюченные от ревматизма, все еще ловко вязали узлы на мешках с зерном.
Женщины, подобрав подолы домотканых плахт, носили воду в дубовых бочонках, обвязанных веревками, – питье и для коней, и для людей. Вода была холодной, с привкусом болотной ржавчины, но никто не привередничал.
Семена ржи, отборные, золотистые, хранились в амбаре господина под замком, окованным железом. Мешки вскрывали с благоговением – каждое зернышко, круглое, тяжелое, было словно капля жизни. Дети, стараясь не просыпать, рассыпали их по лукошкам из ивовых прутьев, а женщины, двигаясь цепью вдоль борозд, горстями разбрасывали зерно широким, отработанным жестом, будто сеяли не только рожь, но и надежду. Руки их, шершавые от работы, двигались ритмично, словно в молитве: «Взойди-взойди, солнышко обогрей, дождичком напои».
Мужчины шли следом, заделывая семена граблями с редкими, стертыми зубьями. Земля, влажная от утренней росы, мягко обволакивала зерна, словно укрывая их одеялом. Аристах ходил по краю поля, щурясь, и следил, чтобы не оставалось проплешин – барин объезжал поля раз в неделю на сытом гнедом жеребце, и любая оплошность стоила штрафа, вычтенного из и без того скудного жалования.
– Эх, нынче земля добрая, – вздыхала Илга, вытирая лоб краем платка, – только бы дожди не забили зерно…
– Молчи, – обрывал её сосед Викар, коренастый мужик с обветренным лицом. – Сглазишь.
Дети, устав от скучной работы, бегали вдоль межи, пугая ворон криками и бросая комья земли, но к полудню и они притихли. Солнце жарило немилосердно, и пот, смешиваясь с пылью, стекал по спинам и лицам. Кое-кто присаживался в тень кургана, поросшего чахлой травой, жевал черствые краюхи хлеба с солью да лук, вытащенный из кармана. Староста не гнал. Знал: без сил люди – не работники.
К вечеру, когда последняя полоса была засеяна, Григорий, высокий, сутулый мужик с глубоко запавшими глазами, пробормотал.
– Ладно, справились. Теперь уж как боги скажут.
Возвращались молча, волоча ноги. Женщины несли пустые лукошки, дети дремали на плечах отцов, обнимая их за шеи. Над полем кружились грачи, а вдалеке, у господской усадьбы, уже зажигались огни – там пировали, звенели бокалами, смеялись чужими голосами, не зная цены хлебу.