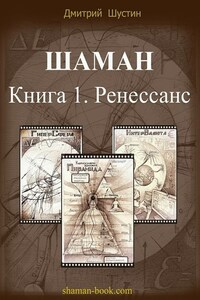Дорога вилась змейкой, то полого поднимаясь, то круто спускаясь. Красота прибайкальской природы за окном автобуса поражала своим летним великолепием. Много раз мне доводилось наблюдать эту красоту, и каждый раз я приходил в восторг от увиденного. Сегодня же, насладившись всем этим, я задумался о нашей людской жизни. Есть в ней, как и в природе, стадии: рождения, пышноцветия, осеннего золотого осыпания и умирания, но, верно, только в этом и сходство. «Человеческая жизнь гораздо длиннее пиода циклической смены года и динамичнее, но несопоставимо короче жизни природы, – философствовал я. – Потому скорость, с которой проносится жизнь человека, не позволяет ему на стремительном бегу осмыслить, правильно ли он живет. А когда бег в меру здоровья становится медленным и приходит время воспоминаний, то ничего уже невозможно изменить, поправить. И счастливы те, кто выбрал правильный путь, хотя об этом могут судить только их потомки», – такие грустные мысли пришли ко мне в этот раз.
В автобусе, утомившись от созерцания несущихся навстречу и исчезающих за окном успокаивающих своей зеленью картин природы, одни пассажиры задремали, покачиваясь в такт неровностям дороги, другие пытались поговорить с соседом, чтобы скоротать время поездки. Дальняя поездка всегда располагает пассажиров к откровению, поэтому иногда незнакомому человеку можно излить то, что наболело в душе, чем не всегда можно поделиться с родными и близкими.
– Батя, далеко едешь? – внезапно спросил мой сосед, паренек лет пятнадцати, с синими наколками на пальцах и настороженным острым взглядом. Это бросилось мне в глаза еще при посадке в автобус, когда наши места оказались рядом.
Я назвал деревушку и с любопытством взглянув на паренька. В его обращении «Батя», мне показалось, прозвучали какие-то блатные нотки. Для меня же в этом слове всегда было что-то магическое. В этом коротком обращении в моей юности звучало не только уважение, но и чувствовался трепет, как у верующего перед священником.
– А я вот домой возвращаюсь, только что откинулся. Мать уже заждалась, пишет: «Все слезы выплакала», да брат и сестра тоже ждут. Надеются на мою помощь! – продолжил разговор паренек. Он усмехнулся, и в этой усмешке была едва скрываемая детская гордость за себя.
– Куда откинулся-то? – не понял я.
– Да из лагеря еду, – пояснил он, по-прежнему улыбаясь.
– Пионерского, что ли? – растерявшись, удивленно спросил я.
– Ты что, дядя, издеваешься? – бросил он раздраженно. – Сидел я, наказание отбывал! Понял?
– Понял… За что сидел-то? – сконфуженно и миролюбиво поинтересовался я, надеясь услышать – «за хулиганство».
– Да за грабеж, – ответил он уже спокойно, будто это был небольшой проступок. – Дурак был… вот и попался.
От этих слов и будничного тона его голоса, в котором не чувствовалось раскаяния, я инстинктивно чуть отодвинулся. Заметив это и то, как переменилось мое лицо, он сказал вызывающе:
– Вот вы все такие. Верно мне кореша говорили… словно, кто освобождаются оттуда, все – нелюди. – Он замолчал, гася раздражение, и, успокоившись, вдруг предложил: – Батя давай я тебе расскажу, как туда попал, – он с надеждой заглянул мне в глаза.
– Если думаешь, что я тебя буду жалеть, то ошибаешься, – сказал я сурово.
– Нужна мне, Батя, твоя жалость! Я и сам-то себя не жалею. Мне просто хочется понять, почему люди живут по звериным законам. – В его голосе послышалось ожесточение, смешанное с болью. – Ты думаешь, я действительно безжалостный грабитель? – спросил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжил, – нет, я не грабитель, но случай так распорядился, что мне пришлось взять на себя чужую вину.