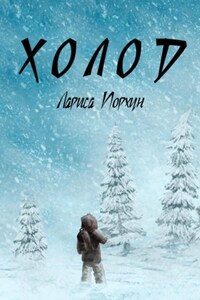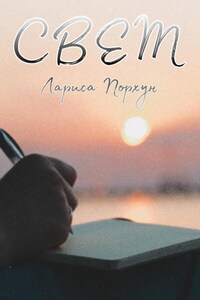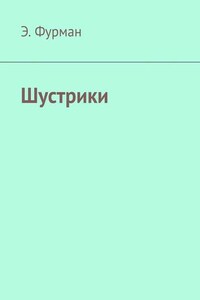1.
Я хорошо помню, когда принял это решение. Это было ночью накануне воскресенья. Утром сразу после построения, я мог поехать домой. Но я знал, что не поеду. После того, как маму положили в больницу, мне совсем не хотелось видеть отца. Потому что я боялся. Боялся, что буду снова испытывать эту неловкость из-за того, что отец, как и в прошлые разы начнёт прятать глаза, натянуто улыбаться и подбирать слова.
А в квартире я начну натыкаться на чужие вещи. Женские вещи. Так всегда бывает, когда кто-то собирается наспех и притом точно знает, что скоро вернётся и поэтому особой нужды укладываться более тщательно, нет.
В ту ночь мне не спалось из-за разных мыслей, а ещё потому что было холодно. Очень холодно. Вообще-то холодно у нас всегда. Говоря откровенно, я даже не помню, когда было тепло. А ведь мне уже двенадцать. Нет, кое-что всё-таки припоминается.
Однажды, когда мне было года три или четыре я ездил с родителями к морю. Наверное, там было очень тепло, потому что я помню, что купался. Но это даже не воспоминание, это что-то другое, вроде ощущения какого-то: я знаю, что это было, но как будто и нет. Или было, но не со мной. Пытаешься схватить, удержать в сознании, а оно настолько невесомое, что тает и растворяется без следа.
Витьке Белому – четырнадцать и он говорит, что хорошо помнит лето. Но Витёк – известный мастер заливать, поэтому ему мало, кто верит. У нас только учителя и воспитатели помнят тепло, но говорить об этом в официальном учреждении, да ещё с воспитанниками нельзя. А наша образовательно-трудовая школа интернатного типа № 17, учреждение самое, что ни есть, официальное.
Вообще, у нас шестидневка и если у тебя нет нарушений или непогашенных взысканий, и если ты в течение трёх месяцев не попадал в красную, то есть штрафную зону, и кроме того имеются родители или законные представители, – то ты можешь получить увольнительную почти на всё воскресенье: с десяти утра до восьми тридцати вечера, когда ты просто обязан, живой или мёртвый присутствовать на построении.
У нас с этим строго, но иначе нельзя: если не будут соблюдаться порядок и трудовая дисциплина, предугадать во что это выльется почти невозможно. Возникнет хаос, а это пострашнее холода. Ведь так уже было когда-то.
Мне рассказывала мама, да и дед, когда ещё был жив. Тогда в школе ни у кого не было трудовой нормы, как у нас, не было красной зоны, не было взысканий, и о спецгруппе там вообще никто не имел никакого понятия. У них было по пять-шесть уроков, после чего, получив устное или письменное задание по предметам, они шли домой. Каждый день! Да нам такое и не снилось!
Только подумать, если им нездоровилось, или были какие-то другие веские основания для того, чтобы не являться в школу, они преспокойно этим пользовались. У нас же уважительных причин для отсутствия на построении может быть только три: тебя поймали беглые и держат в качестве заложника, ты находишься в бессознательном состоянии или… Но о третьей причине я лучше не буду упоминать, и так понятно.
В нашей школе, как и во всех остальных сейчас, основной упор делается на трудовое воспитание, которое проходит в мастерских. У нас, у мальчиков – в слесарных, столярных и механосборочных, а во втором корпусе, где обитают девочки – в швейных, полиграфических и на пищеблоке. А ещё работа в теплицах, пекарне и на ферме. Наша школа отмечена серебряным флагом, как самоокупаемая более чем на 50%. Петрович, – наш воспитатель, – говорит, что года через три-четыре, мы вполне сможем претендовать на золотой флаг, если в плане самоокупаемости перешагнём 80-процентный рубеж.
Главное, что от этого все выиграют: воспитатели и учителя получат высшие разряды и категории, а благодаря этому смогут рассчитывать и на другие блага в социальной сфере, – премии там, льготное расширение жилой площади, одна в год санкционированная поездка на нашу территорию Юга, ну и прочее.