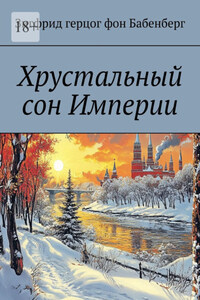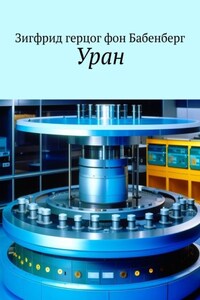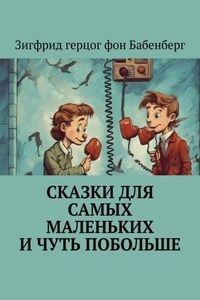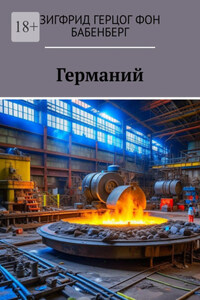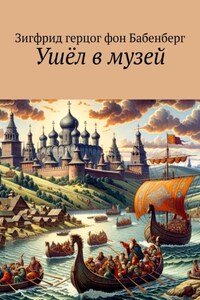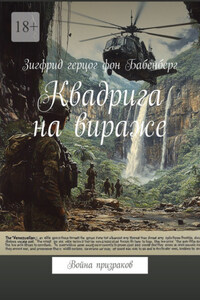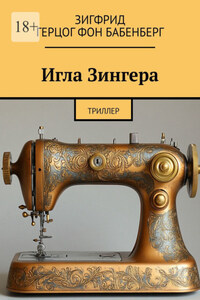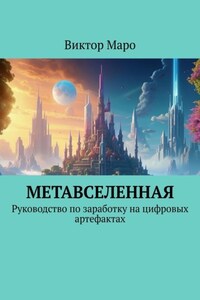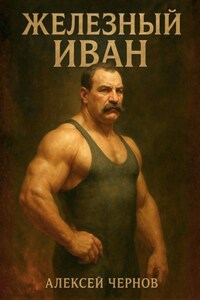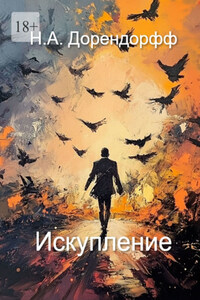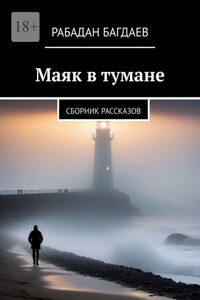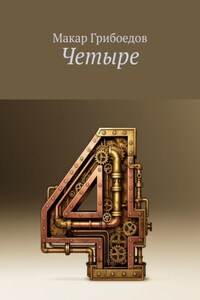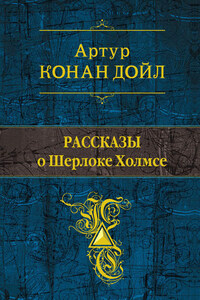ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
О ТЕХ, КТО ДЕРЖАЛ НЕБО
Дорогой читатель, В твоих руках – сборник повестей. Это ключи. Три ключа от трёх разных дверей, ведущих в одну и ту же Россию – ту, что мы знаем по учебникам, но почти не узнаём сердцем. В ту Россию, что пребывала в своём «Хрустальном сне Империи» – прекрасном, ясном и роковым образом лишённом самоосознания. Это был сон о вечности и незыблемости. Сон, в котором гигантский, идеально отлаженный механизм – от купеческой лавки до монастырской обители – работал, не задаваясь вопросом о своей природе. Он был слишком органичным, чтобы усомниться в себе. Слишком прочным, чтобы разглядеть собственную хрупкость. И в этой блаженной, «безмятежной отсутствии рефлексии» и таилось семя будущего краха. Империя не видела трещин, потому что не искала их. Она видела лишь свой блеск. Первый ключ – железный, от лабаза – отопрёт дверь в московский купеческий театр. Здесь созидали, не рефлексируя: мостили улицы, строили театры, спасали города от голода, потому что иначе нельзя. «Тёмное царство» было царством действия, а не самоанализа. Его сила – в воле и рубле – была и его слепым пятном. Второй ключ – деревянный, пахнущий воском и хлебом – ведёт в Русь монашескую. Здесь освящали быт, не сомневаясь в своём пути. Молились и кололи дрова в едином, неразрывном ритме. Эта вера была несокрушимой опорой, но её органичная, взятая как данность цельность, делала её уязвимой для мира, который уже научился сомневаться. Третий ключ – каменный, от московской мостовой – проведёт тебя по Московской Атлантиде. Это город-сновидение, который жил, не ведая, что его скоро не станет. Его дома смеялись, его переулки хранили тайны, но он не осознавал себя уходящей натурой, не готовился к прощанию. Что связывает эти три мира? Диалог, но диалог глухих. Яростный, полный любви и непонимания, но лишённый главного – общего вопроса: «А что же мы такое? Куда идём?». Купец, монах и горожанин были деталями одного хрустального механизма, слишком занятыми своей работой, чтобы услышать первый тихий хруст. Этот сборник – попытка разгадать не только красоту этого сна, но и причину его окон. Увидеть, как органичность и отсутствие рефлексии стали и силой, и фатальной слабостью. Как одна Россия, «продавая сардины, строила театры», не спрашивая, зачем, а другая, «коля дрова, возводила храм в душе», не сомневаясь в прочности стен. Перелистни страницу. Услышь звон елисеевских витрин, стук топора в обители и шёпот кривых переулков. Вслушайся в этот хрустальный перезвон – в нём не только очарование утраченного рая, но и горький урок о том, что даже самый прочный мир рушится, если те, кто в нём живёт, забывают спросить себя: «Не сон ли это?». Автор
ПРЕДИСЛОВИЕ
«О БЫЛЫХ КАМНЯХ И ЖИВЫХ СЕРДЦАХ»
Дорогой читатель,
Когда мы слышим слова «монастырь», «схима», «послушание» – воображение рисует нам неприступные стены, за которыми течет жизнь, полная непостижимого мистицизма. Кажется, что там, за вратами, время застыло в вечном «ныне и присно», а люди – лишь тени, движимые одной лишь молитвой. Мы видим величественные иконы, строгие лики фресок, слышим перезвон колоколов, доносящийся как эхо из глубины веков. И думаем: «Вот он – остров святости, отгороженный от суеты мира сего».
Но позвольте приоткрыть вам маленькую тайну, выстраданную личным опытом. Я, как и многие из вас, знал одесских семинаристов. Видел, как они, сбив клобук набекрень, с азартом гоняли мяч во дворе после лекций. Слышал их споры у кипящего самовара – не о тонкостях исихазма, а о том, чья очередь мыть котлы в трапезной или как починить протекающую крышу над кельей. Помню, как один юноша, весь в чернильных пятнах, отчаянно зубрил греческий перед экзаменом, шепча: «Господи, помоги, ибо филология – крест мой тяжкий!».