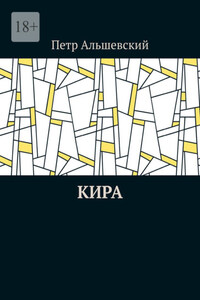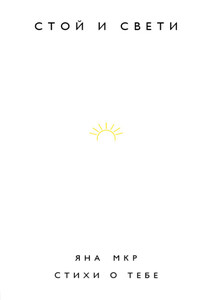«Играя с мраком блюз»
Д. Кримской. Специализированный сайт «Засиживаясь с Пушкиным до храпа».«Поэмы, значит, такие. „Играя с мраком блюз“ – штормовая, „Эсхатологическое томление Мстислава Русса“ – медленно распиливающая. „Яхведром“ ближе к лечебной». Книга содержит нецензурную брань.
| Жанр: | Стихи и поэзия |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн «Играя с мраком блюз»
Книга заблокирована.
Вам будет интересно