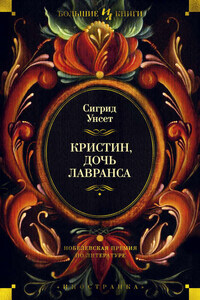Представляете себе Гавану ранним утром, когда под окнами домов еще дрыхнут бродяги? Когда даже лед еще не начали развозить по барам?.. Словом, мы шли в «Жемчужину Сан-Франциско» выпить кофе, а когда пересекали площадь, на ней не спал лишь один попрошайка – хлебал воду из фонтана. Но когда мы вошли внутрь, там уже поджидали трое.
Мы сели, и один из них шагнул к нам.
– Ну? – сказал он.
– Не могу, – ответил я. – Рад бы помочь, да не могу. Еще вчера об этом говорил.
– Тогда назови свою цену.
– Не в этом дело. Просто не могу, и все.
Те двое тоже подошли и уныло маячили рядом. Врать не стану, с виду вроде неплохие парни, и я в самом деле был бы не прочь оказать им услугу.
– По тысяче монет с головы, – сказал тот, кто сносно владел английским.
– Не терзай мне душу, – сказал я ему. – Правду говорю: не могу я.
– Наступят другие времена, и когда здесь все изменится, тебе зачтется.
– Знаю. Я вообще за вас болею. Но согласиться не могу.
– Почему?
– Лодка меня кормит. Если ее конфискуют, я потеряю все.
– На эти деньги купишь новую.
– Сидя в каталажке?
Они, должно быть, решили, что я люблю, когда меня уламывают, потому что этот парень упрямо гнул свое.
– У тебя будет три тысячи долларов, плюс заслуги. Нынешний режим, знаешь ли, долго не протянет.
– Слушай, – говорю я, – меня не волнует, кто тут у вас президент. Главное, что я не вожу в Штаты ничего болтливого.
– Намекаешь, что мы будем болтать? – заявил один из молчунов. Да еще зло так.
– Я просто сказал: ничего болтливого.
– Так мы, по-твоему, ленгуас ларгас?
– Нет.
– Ты хоть знаешь, что значит ленгуа ларга?
– Знаю. «Длинный язык».
– А знаешь, что мы с такими делаем?
– Ты меня не стращай. Сами же первые подкатили. Я вам вообще ничего не предлагал.
– Панчо, заткнись, – бросил ершистому тот, кто затеял разговор.
– Так он же намекает, мы-де болтать возьмемся, – буркнул Панчо.
– Слушайте, – говорю, – я вам объясняю: я не вожу ничего, что умеет болтать. Спиртное не умеет. Оплетенные бутыли не умеют. Есть куча других вещей, которые не умеют болтать. Зато люди умеют.
– А китайцы? – зло напирал Панчо.
– Эти умеют болтать, да только я их не понимаю, – сказал я ему.
– Стало быть, не возьмешься?
– Еще вчера вечером ответил. Не могу я.
– Как насчет твоего языка? – поинтересовался Панчо.
Никак он не мог взять в толк, что происходит, и потому кипятился. А еще, должно быть, от разочарования. Я ему даже отвечать не стал.
– Ты сам-то не ленгуа ларга, случаем? – спросил он, не сбавляя тона.
– Вот еще.
– Чего-чего? Угрожаешь, что ли?
– Слушай, – говорю я ему. – И охота тебе буянить спозаранок? Поди, и так уже немало глоток перерезал. А я даже кофе не попил.
– Ты, значит, уверен, что я людям глотки режу?
– Нет, – говорю. – И мне плевать. Но ты умеешь вести разговор без вот этого бешенства?
– Ты меня взбесил. Прирезать бы тебя.
– Тьфу, черт, – говорю. – Думай, чего несешь.
– Ладно, Панчо, хватит, – сказал первый и обратился ко мне: – Извини, что так вышло. Жаль, что не можешь нас взять.
– Да и мне жаль.
Все трое поплелись к двери, и я проводил их взглядом. Симпатичные молодые парни, в добротной одежде, но без головных уборов; похоже, каждый при неплохих деньгах. Как бы то ни было, сумму они предложили приличную, да и разговаривали на том английском, на котором изъясняются кубинцы с деньгами.