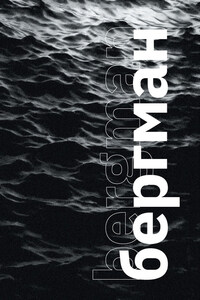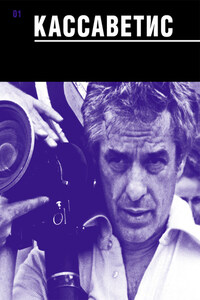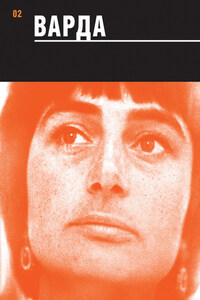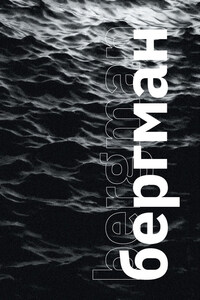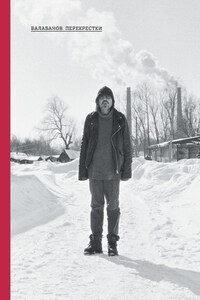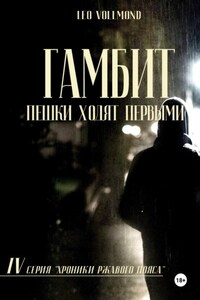Царствованию Тиберия суждено было стать эпохой, когда обнаружилось открытое движение в пользу новых нравственных принципов. Усталое человечество не могло уже, как прежде, довольствоваться политическими идеалами: поворот от древних языческих религий к свету и простору нового учения был неизбежен, – и не во власти кесарей было остановить это движение.
У берегов Средиземного моря к этому времени сгруппировались побежденные Римом народы – товарищи по общему горю, по общей бедственной судьбе; придавленные, они несли безмолвно тяжкое иго всемирной монархии, а Рим, имевший в виду одну только цель мирового политического благоустройства, не обращал внимания на человека, смотрел на него как на вещь, и понятие о равноправии закона для всех людей было ему совершенно чуждо. Рука, занесенная для кары, останавливалась не движением милосердия, но сознанием своего величия и высших политических соображений. Законный грабеж, те подати, которые платили Риму несчастные завоеванные земли, доводили до нищеты богатые и плодоносные места. Грубая солдатская власть заменяла выборное правление. Чувствовалось давление сверху неведомых пришельцев, в силу кулачного права распоряжающихся их имуществом. Удивительно ли поэтому, что все сердца двинулись с восторгом по новому пути всеобщего равенства и того основного положения христианского учения, по которому велено людям любить друг друга как самого себя.

Иерусалимский храм при царе Соломоне. Рисунок XIX в.
В Палестине было открыто провозглашено равенство всех людей перед Богом, Который приказал солнцу светить равномерно для всех – и добрых, и злых, равно орошать дождями и имения праведных, и неправедных.
Язычество, в смысле соперника, не могло выдержать борьбы с мощным напором нового вероучения. Язычество слишком отдавалось внешней обрядности и не давало руки помощи и утешения тем, кто нуждался в поддержке. Какие-то смутные, неясные представления о загробной жизни носились в обществе. Утешения перед смертью жрец не мог преподать никому, а тем более какому-нибудь одряхлевшему на работе невольнику, который считался чуть не зверем. На смерть смотрели как на вечное освобождение от земных мук, и самоубийство было признаком великой души и характера.