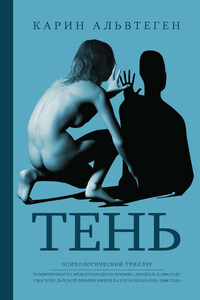Волосы Али-Индуса – прямые и черные, как смола. Блеск их заметен издалека, точно корова голову языком ему облизала. Лицо его – квадратное и смуглокожее, брови густые, глаза маленькие, раскосые, но венец всего – та самая индуистская родинка, которой Али-ага был знаменит: так красиво сидела она на его правой щеке.
В его кофейном заведении всегда было людно: тут и поденные рабочие, что шли трудиться спозаранку, и шоферы, и возчики, и, наконец, те, кто вечерами играл в футбол на пустыре рядом.
Некоторые говорили: мол, Али-Индус родинкой своей на хлеб зарабатывает, так-то он сам нерасторопен, другие придерживались иного мнения: мол, характером он добродушен и язык за зубами держит, потому и дело спорится. Наконец, была третья партия, убежденная в том, что Али-Индусу просто очень идет его улыбка. И действительно, когда он улыбался, родинка его смотрелась красивее. А улыбка, надо сказать, с его темных, пригожих губ почти не сходила. Как бы то ни было, но Али-Индуса в районе Гамбар-абад знали все.
Откуда он, кстати, явился, чем занимался раньше, – об этом в Гамбар-абаде понятия не имели. Семьи у него не было. Спал он один-одинешенек в кладовке своего заведения. Когда начинали его расспрашивать да лезть в прошлое, он мрачнел. Брови его сходились, и, пожав плечом, он ускользал от ответа. Любил он индийское кино – вот это несомненно. Как, бывало, объявят в рекламе индийский фильм, он тут же оставляет кофейню на Исмаила-синеглаза и прямо идет на сеанс – и ему неважно было, что за фильм, начался ли уже, он входил в темноту кинозала, садился на свободное место в первом ряду и погружался в море кино. Иногда смотрел один фильм дважды. И всякий раз, когда он выходил из кино, веки его были опухшими, а глаза – красными. Он говорил, что это, мол, от солнечного света, но ясно было, что это неправда – слезам он дал волю.
В кладовке своего заведения Али-Индус прикрепил к стене большое фото индийской киноактрисы. У нее были удлиненные большие глаза и длинные ресницы, а на лбу, в самой его середине, красивая родинка – точно такая же, как на щеке у Али-Индуса. И всякий раз, когда Али-Индус заходил в кладовую, он обязательно смотрел на глаза и потом на родинку этой женщины, и печально улыбался – такой же улыбкой, как та, которая тронула ее губы.
В его кофейном заведении имелся и большой старый телевизор, водруженный на квадратную железную опору прямо против буфетной стойки. Перед телевизором стояла деревянная широкая скамья, на ней был раскинут потертый и обтрепанный ковер. По вечерам ребятишки, в жажде мультиков и детских программ, как цыплята, мостились там рядком и – со стрижеными головами, блестящими глазенками и полуоткрытыми ртами – таращились на черно-белую телевизионную картинку. Порой им так не терпелось, что Али-Индус был вынужден включать телевизор еще до начала передач. И даже приятный его треск и бесчисленные крупнозернистые помехи для этих стриженых пацанов были так волнительны, что они, в ожидании мультиков, пожирали глазами пустой экран с телевизионной рябью.
Али-Индус брал с пацанов по монетке – риалу – с каждого. О чае речи не велось. Он говорил: «Пацанам чай зачем? Ночью постель мочить?» – и смеялся. Темные его, с фиолетовым оттенком, губы открывали ряд блестящих зубов. Ему нравилось смеяться, потому что так он мог показать свои золотые коронки.
По утрам в кофейне бывало тихо. Позавтракав, многие сразу вставали и шли по своим делам-заботам, оставались только немногие пенсионеры. Они пили чай, предаваясь воспоминаниям о былом. Иногда усталый шофер такси резко тормозил возле кофейни, садился, развалясь, на одну из скамеек или на стул, и ожидал чая от Али-Индуса.